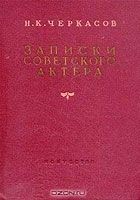Записки советского актера - страница 9
После того как я сыграл рыцаря в «Раймонде», меня стали чаще занимать в балетных спектаклях. Как я был окрылен оказанным доверием, узнав, что в двух новых балетных постановках мне поручены две небольшие роли! Пусть роли были эпизодические, — я готовился к ним как к ответственнейшему выступлению. Это были роли тамбурмажора в «Петрушке» Игоря Стравинского и рыцаря Дня в его же «Жар-птице».
Не буду касаться самих этих произведений, декадентский характер которых достаточно известен. В те годы я не мог разобраться в их идейной сущности, да и скромные роли, которые я в них исполнял, не давали к тому оснований. В то время я смотрел на них только как на первые роли в балетных премьерах, как на дальнейшие испытания моих возможностей. А испытания были сложные, особенно в «Жар-птице». Здесь на мою долю выпала целая сцена, по ходу которой я убивал рыцаря Ночи и как рыцарь Дня вступал в свои права, давая новое направление развитию действия. Роль рыцаря Ночи исполнял Е. А. Мравинский, мой неразлучный спутник по работе в составе мимического ансамбля, и мы были счастливы тем, что нас заметили, выдвинули, а мы, в свою очередь, справились с новыми для нас трудными заданиями.
В последнем новом балете, в котором я был занят перед уходом из театра, — в «Сольвейг» Грига, — я вел небольшую, но заметную мимическую роль скрипача. Находясь на авансцене, с бутафорским инструментом в руках, я водил смычком по струнам, всеми своими движениями сливаясь с мелодией, звучавшей в оркестре, и воплощая ее в пластике. Подобного рода задания приучали подчинять пластику музыке, добиваться точности и выразительности движения и жеста в их соотношении с музыкой.
Образцами для меня служили Иван Васильевич Ершов, а особенно Федор Иванович Шаляпин.
В свободные минуты, которые оставались между многократными переодеваниями, я не упускал случая наблюдать за ними из-за кулис. Скупая выразительность, лаконичность и в то же время насыщенность жеста были им свойственны в высшей степени. Они сказывались даже в партиях эпизодического плана. Не забыть облик И. В. Ершова в партии Финна в глинкинском «Руслане», где он достигал величавой эпичности образа. Не забыть монументальный облик Ф. И. Шаляпина в небольшой, ограниченной одним лишь выходом, партии варяжского гостя в «Садко». Опираясь на высокий тяжелый меч, он возвышался скульптурным изваянием, как бы высеченный из глыбы серого гранита, и только в начале песни, в точном соответствии с текстом и музыкой, с удивительной пластичностью широко отводил правую руку назад при словах: «О скалы грозные дробятся с ревом волны, и с белой пеною, крутясь, бегут назад». Жест приходился на слова «крутясь, бегут назад», после чего Ф. И. Шаляпин плавно опускал правую руку на рукоять меча и застывал в каменной неподвижности. Сила выразительности этой детали была необыкновенная.
И. В. Ершов по-настоящему увлекал и потрясал в партии юродивого Гришки Кутерьмы в «Сказании о невидимом граде Китеже» Н. А. Римского-Корсакова. Образ этот — поистине гениальное творение нашего выдающегося певца-актера. В партии Гришки Кутерьмы гортанный тембр голоса И. В. Ершова органически входил в характеристику самого образа, который казался немыслимым вне свойственных этому певцу тембровых красок. «Китеж» был возобновлен по случаю юбилея И. В. Ершова и прошел с исключительным подъемом.
Мне представилась возможность особенно внимательно наблюдать за Ф. И. Шаляпиным в тех эпизодах, в которых я сам участвовал и по ходу действия был вовлечен в непосредственное с ним общение. А так как в те-годы репертуар его был обширным и пел он очень много, сколько никогда не пел до революции, — по девяти-десяти, а то и по двенадцати спектаклей каждый месяц, — то такая возможность представлялась мне достаточно часто.
Так, с первых же дней, когда я еще служил на «разовых», я неизменно был занят в «Юдифи». Я маршировал правофланговым в том церемониальном шествии ассирийского войска, которое развертывалось перед шатром Олоферна — Шаляпина. Он стоял величественный, страшный в своем затаенном необузданном гневе, и когда я приближался к нему — мурашки пробегали по телу. Но в следующем акте, в сцене опьянения, он был неистов в своем любовном исступлении, хотя величавость ни на миг не покидала его, и настоящая дрожь охватила меня, изображавшего одного из телохранителей, когда в конце этого эпизода он в изнеможении грохнулся к ногам Юдифи. Преодолев чувство страха, я вместе с пятью другими телохранителями бережно поднял неподвижное тело Олоферна, чтобы отнести его на ложе, стоявшее в глубине сцены, и не без удивления расслышал мягкий шаляпинский шепот: «Спасибо, товарищи! Спасибо, товарищи!..»
В те годы Ф. И. Шаляпин находился в зените расцвета, и творчество его являлось недосягаемо высоким образцом актерского перевоплощения.
Особенно увлекали меня его выступления в ролях трагического плана, где он захватывал глубиной и цельностью замысла, выразительнейшей разработкой всех деталей и громадной силой переживания.
В «Псковитянке» Н. А. Римского-Корсакова я выходил в толпе в первой картине, в эпизоде въезда Грозного в мятежный Псков. Нас теснила царская охрана — сначала конная, затем пешая, — и, наконец, на белой лошади, в величественной согбенной позе, низко пригнувшись к шее коня, въезжал Грозный — Шаляпин. Он обводил мятежную толпу тяжелым, суровым взглядом, и даже на близком расстоянии казалось, что его старческие веки наливаются кровью. Он не произносил ни слова, это была немая сцена, своего рода живая картина, но характер, образ героя был уже полностью обрисован.