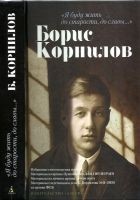«Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнил - страница 25
я рассказать, ни крошки не тая,о нашем и забавном и недолгом
знакомстве,
Анна Павловна моя.
И ты прочтешь.
Воздашь стихотворенью
ты должное…
Воспоминаний рой…
Ты помнишь?
Мы сидели под сиренью, —
конечно же, вечернею порой.
(Так вспоминать теперь никто не может:
у критики характер очень крут…
— Пошлятина, — мне скажут,
уничтожат
и в порошок немедленно сотрут.)
Но продолжаю.
Это было летом
(прекрасное оно со всех сторон),
я, будучи шпаной и пистолетом,
воображал, что в жизни умудрен.
И модные высвистывал я вальсы
с двенадцати примерно до шести:
«Где вы теперь?
Кто вам целует пальцы?»
И разные:
«Прости меня, прости…»
Действительно — где ты теперь, Анюта,
разгуливаешь, по ночам скорбя?
Вот у меня ни скорби, ни уюта,
я не жалею самого себя.
А может быть,
ты выскочила замуж,
спокойствие и счастье обрела,
и девять месяцев прошло,
а там уж
и первенец —
обычные дела.
Я скоро в гости, милая, приеду,
такой, как раньше, —
с гонором, плохой,
ты обязательно зови меня к обеду
и угости ватрушкой и ухой.
Я сына на колене покачаю
(ты только не забудь и позови)…
Потом, вкусив малины,
с медом чаю,
поговорю о «странностях любви».
1932
Семейный совет
Ночь, покрытая ярким лаком,
смотрит в горницу сквозь окно.
Там сидят мужики по лавкам —
все наряженные в сукно.
Самый старый, как стерва зол он,
горем в красном углу прижат —
руки, вымытые бензолом,
на коленях его лежат.
Ноги высохшие, как бревна,
лик от ужаса полосат,
и скоромное масло ровно
застывает на волосах.
А иконы темны, как уголь,
как прекрасная плоть земли,
и, усаженный в красный угол,
как икона, глава семьи.
И безмолвие дышит: нешто
все пропало? Скажи, судья…
И глядят на тебя с надеждой
сыновья и твои зятья.
Но от шороха иль от стука
все семейство встает твое,
и трепещется у приступка
в струнку замершее бабье.
И лампады большая плошка
закачается на цепях —
о ли ветер стучит в окошко,
то ли страх на твоих зубах.
И заросший, косой как заяц, твой
неприятный летает глаз:
— Пропадает мое хозяйство,
будь ты проклят, рабочий класс!
Только выйдем — и мы противу —
бить под душу и под ребро,
не достанется коллективу
нажитое мое добро.
Чтобы видел поганый ворог,
что копейка моя дорога,
чтобы мозга протухший творог
вылезал из башки врага…
И лица голубая опухоль
опадает и мякнет вмиг,
и кулак тяжелее обуха
бьет без промаха напрямик.
Младший сын вопрошает: «Тятя!»
Остальные молчат — сычи.
Подловить бы, сыскать бы татя,
что крадется к тебе в ночи.
Половицы трещат и гнутся —
поднимается старший сын:
— Перебьем, передавим гнуса,
перед Богом заслужим сим.
Так проходят минуты эти,
виснут руки, полны свинца,
и навытяжку встали дети —
сыновья своего отца.
А отец налетает зверем,
через голову хлещет тьма:
— Все нарушим, сожжем, похерим —
скот, зерно и свои дома.
И навеки пойдем противу —
бить под душу и под ребро, —
не достанется коллективу
нажитое мое добро.
Не поверив ушам и глазу,
с печки бабка идет тоща,
в голос бабы завыли сразу,
задыхаясь и вереща.
Не закончена действом этим
повесть правильная моя,
самый старый отходит к детям —
дальше слово имею я.
Это наших ребят калеча,
труп завертывают в тряпье,
это рухнет на наши плечи
толщиною в кулак дубье.
И тогда, поджимая губы,
коренасты и широки,
поднимаются лесорубы,
землеробы и батраки.
Руки твердые, словно сучья,
камни, пламенная вода
обложили гнездо паучье,
и не вырваться никуда.
А ветра, грохоча и воя,
пролагают громаде след.
Скоро грянет начало боя.
Так идет на совет — Совет.
1932
Убийца
От ногтя до локтя длиною,
непорочна, чиста, свежа,
блещет синяя под луною
сталь отточенного ножа.
А потом одного порядка