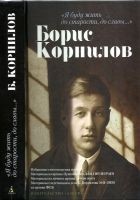«Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнил - страница 28
и цветы изображены.И какого дьявола ради,
одуревший от пустоты,
я разглядываю тетради
и раскладываю листы?
Но наполнено сердце спесью,
и в зрачках моих торжество,
потому что я слышу песню
сочинения моего.
Вот летит она, молодая,
а какое горло у ней!
Запевают ее, сидая
с маху конники на коней.
Я сижу над столом разрытым,
песня наземь идет с высот,
и подкованным бьет копытом,
и железо в зубах несет.
И дрожу от озноба весь я —
радость мне потому дана,
что из этого ящика песня
в люди выбилась хоть одна.
И сижу я — копаю ящик,
и ушла моя пустота.
Нет ли в нем каких завалящих,
но таких же хороших, как та?
1933
«Без тоски, без грусти, без оглядки…»
Без тоски, без грусти, без оглядки,
сокращая житие на треть,
я хотел бы на шестом десятке
от разрыва сердца умереть.
День бы синей изморозью капал,
небо бы тускнело вдалеке,
я бы, задыхаясь, падал на пол,
кровь еще бежала бы в руке.
Песни похоронные противны.
Саван из легчайшей кисеи.
Медные бы положили гривны
на глаза заплывшие мои.
И уснул я без галлюцинаций,
белый и холодный, как клинок.
От общественных организаций
поступает за венком венок.
Их положат вперемешку, вместе —
к телу собирается народ,
жалко — большинство венков из жести, —
дескать, ладно, прах не разберет.
Я с таким бы предложеньем вылез
заживо, покуда не угас,
чтобы на живые разорились —
умирают в жизни только раз.
Ну, да ладно. И на том спасибо.
Это так, для пущей красоты.
Вы правы, пожалуй, больше, ибо
мертвому и мертвые цветы.
Грянет музыка. И в этом разе,
чтобы каждый скорбь воспринимал,
все склоняются.
Однообразен
похоронный церемониал.
……………
Впрочем, скучно говорить о смерти,
попрошу вас не склонять главу,
вы стихотворению не верьте, —
я еще, товарищи, живу.
Лучше мы о том сейчас напишем,
как по полированным снегам
мы летим на лыжах,
песней дышим
и работаем на страх врагам.
1933
«Под елью изнуренной и громоздкой…»
Под елью изнуренной и громоздкой,
что выросла, не плача ни о ком,
меня кормили мякишем и соской,
парным голубоватым молоком.
Она как раз качалась на пригорке,
природе изумрудная свеча.
От мякиша избавленные корки
собака поедала клокоча.
Не признавала горести и скуки
младенчества животная пора.
Но ель упала, простирая руки,
погибла от пилы и топора.
Пушистую траву примяла около,
и ветер иглы начал развевать.
Потом собака старая подохла,
а я остался жить да поживать.
Я землю рыл,
я тосковал в овине,
я голодал во сне и наяву,
но не уйду теперь на половине
и до конца как надо доживу.
И по чьему-то верному веленью —
такого никогда не утаю —
я своему большому поколенью
большое предпочтенье отдаю.
Прекрасные,
тяжелые ребята, —
кто не видал —
воочию взгляни, —
они на промыслах Биби-Эйбата,
и на пучине Каспия они.
Звенящие и чистые, как стекла,
над ними ветер дует боевой…
Вот жалко только,
что собака сдохла
и ель упала книзу головой.
1933
«Лес над нами огромным навесом…»
Лес над нами огромным навесом —
корабельные сосны,
казна, —
мы с тобою шатаемся лесом,
незабвенный товарищ Кузьма.
Только птицы лохматые, воя,
промелькнут, устрашая, грозя,
за плечами центрального боя
одноствольные наши друзья.
Наша молодость, песня и слава,
тошнотворный душок белены,
чернораменье до лесосплава,
занимает собой полстраны.
Так и мучимся, в лешего веря,
в этом логове, тяжком, густом;
нас порою пугает тетеря,
поднимая себя над кустом.
На болоте ни звона, ни стука,
все загублено злой беленой;
тут жила, по рассказам, гадюка
в половину болота длиной.
Но не верится все-таки — что бы
тишина означала сия?
Может, гадина сдохла со злобы,
и поблекла ее чешуя?
Знаю, слышу, куда ни сунусь,
что не вечна ни песня, ни тьма,