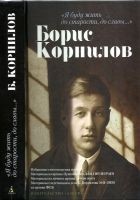«Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнил - страница 33
сказал, прищуря глаз:— В колхозе нашем господа
не числятся у нас.
У нас поля — не небо,
земли большой комок,
заместо бога мне бы
ты лучше бы помог.
Вот понял в этом поле я
(пословица ясна),
что смерть,
а жизнь тем более
мне на миру красна.
Овес у нас — высот каких…
Картошка — ананас…
И весело же все-таки
сосед Иван, у нас.
Вон косят под гармонику,
да что тут говорить,
старуху Парамониху
послали щи варить.
А щи у нас наваристы,
с бараниной, с гусем.
До самой точки — старости —
мы при еде, при всем.
* * *
На воле полночь тихая,
часы идут, тиктикая,
я слушаю хозяина —
он шепчет, как река.
И что его касаемо,
мне жалко старика.
С лица тяжелый, глиняный,
и дожил до седин,
и днем один,
и в ночь один,
и к вечеру один.
Но, впрочем, есть компания,
друзья у старика,
хотя, скажу заранее, —
собой невелика.
Царица мать небесная,
отец небесный царь
да лошадь бессловесная,
бессмысленная тварь.
* * *
Ночь окна занавесила,
но я заснуть не мог,
мне хорошо,
мне весело,
что я не одинок.
Мне поле песню вызвени,
колосья-соловьи,
что в Новгороде,
Сызрани
товарищи мои.
15 ноября 1934
Как от меда у медведя зубы начали болеть
Вас когда-нибудь убаюкивали, мурлыкая?
Песня маленькая,
а забота у ней великая,
на звериных лапках песенка,
с рожками,
с угла на угол ходит вязаными дорожками.
И тепло мне с ней
и забавно до ужаса…
А на улице звезды каменные кружатся…
Петухи стоят,
шеи вытянуты,
пальцы скрючены,
в глаз клевать с малолетства они приучены.
И луна щучьим глазом плывет замороженным,
елка мелко дрожит от холода
телом скореженным,
а над елкою мечется
птица черная,
птица дикая,
только мне хорошо и уютно:
песня трется о щеку, мурлыкая.
* * *
Спи, мальчишка, не реветь —
по садам идет медведь,
меду жирного, густого,
хочет сладкого медведь.
А за банею подряд
ульи круглые стоят,
все на ножках на куриных,
все в соломенных платках,
а кругом, как на перинах,
пчелы спят на васильках.
Спят березы в легких платьях
спят собаки со двора,
пчеловоды на полатях,
и тебе заснуть пора.
Спи, мальчишка, не реветь,
заберет тебя медведь,
он идет на ульи боком,
разевая старый рот,
и в молчании глубоком
прямо горстью мед берет,
прямо лапой, прямо в пасть
он пропихивает сласть.
И, конечно, очень скоро
наедается, ворча.
Лапа толстая у вора
вся намокла до плеча.
Он сосет ее и гложет,
отдувается: капут, —
он полпуда съел, а может,
не полпуда съел, а пуд.
Полежать теперь в истоме
волосатому сластене.
Убежать, пока из Мишки
не наделали колбас,
захватив себе под мышку
толстый улей про запас.
Спит во тьме собака-лодырь,
спят в деревне мужики,
через тын, через колоды
до берлоги, напрямки
он заплюхал, глядя на ночь,
волосатая гора,
Михаил — медведь — Иваныч, —
и ему заснуть пора.
Спи, мальчишка — не реветь —
не ушел еще медведь,
а от меда у медведя
зубы начали болеть.
Боль проникла как проныра,
заходила ходуном,
сразу дернуло,
заныло
в зубе правом коренном.
Засвистело,
затрясло.
щеку набок разнесло.
Обмотал ее рогожей,
потерял медведь покой,
был медведь — медведь пригожий,
а теперь на что похожий —
с перевязанной щекой,
некрасивый, не такой.
Скачут елки хороводом,
ноет пухлая десна,
где-то бросил улей с медом —
не до меду,
не до сна,
не до сладостей медведю,
не до радостей медведю.
* * *
Спи, мальчишка, не реветь,
зубы могут заболеть.
Шел медведь,
стонал медведь,
дятла разыскал медведь.
Это щеголь в птичьем свете,
в красном бархатном берете,
в тонком черном пиджаке,
с червяком в одной руке.
Нос у дятла весь точеный,
лакированный,
кривой,
мыт водою кипяченой,
свежей высушен травой.