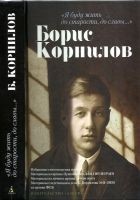«Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнил - страница 51
густому приваркукараваи пшеничного хлеба несут.
Но гуляют, покрытые волчьею шкурой,
за республику нашу
бои впереди.
Молодой Тимофеев
обернется Петлюрой,
атаманом Зеленым,
того и гляди.
Он опять зашумел,
загулял,
заелозил —
атаман…
Украина,
уйди от беды…
И тогда комсомольцы,
винтовки из козел
вынимая,
тяжелые сдвоят ряды.
Мы еще не забыли
пороха запах,
мы еще разбираемся
в наших врагах,
чтобы снова Триполье
не встало на лапах,
на звериных,
лохматых,
медвежьих ногах.
Конец атамана Зеленого
Вот и кончена песня,
нет дороги обману —
на Украине тесно,
и конец атаману.
И от Киева сила,
и от Харькова сила —
погуляли красиво,
атаману — могила.
По лесам да в тумане
ходит, прячется банда,
ходят при атамане
два его адъютанта.
У Максима Подковы
руки, ноги толковы,
сабля звякает бойко,
газыри костяные,
сапоги из опойка,
галифе шерстяные,
на черкеске багровой
серебро — украшенье…
Молодой,
чернобровый;
для девиц — утешенье.
У Максима Удода,
видно, та же порода.
Водки злой на изюме
(чтобы сладко и пьяно)
в общей выпито сумме,
может, пол-океана.
Ходит черною тучей
в коже мягкой, скрипучей.
Улыбнется щербатый
улыбкой кривою,
покачает чубатой
смоляной головою…
По нагану в кармане,
шелк зеленого банта —
ходят при атамане
два его адъютанта.
Атаман пьет неделю,
плачет голосом сучьим —
на спасенье надею
носит в сердце скрипучем.
Но от Харькова — сила,
Травиенко с отрядом,
что совсем некрасиво,
полагаю, что рядом
говорят хлеборобы:
— Будя, отвоевали…
Нет на гадов хворобы,
да и будет едва ли.
Атаман пьет вторую,
говорит: «Я горюю»,
черной щелкает плетью.
Неприятность какая, —
переходит на третью,
адъютантов скликая.
— Вот, Удод и Подкова,
не найду я покоя.
Что придумать такого,
что бы было такое.
Вместе водку глушили,
воевали раз двести,
вместе, голуби, жили,
умирать надо вместе.
Холод смерти почуя,
заявляет Подкова:
— Атаман…
не хочу я
умирать бестолково.
Трое нас настоящих
кровь прольют, а не воду…
Схватим денежный ящик
на тачанку —
и ходу.
Если золота много,
у коней быстры ноги, —
нам открыта дорога,
все четыре дороги…
Слышен голос второго,
молодого Максима:
— Все равно нам хреново:
пуля,
петля,
осина…
Я за то, что Подкова,
лучше нету такого.
Тройка, вся вороная,
гонит, пену роняя.
Пристяжные — как крылья,
кровью грудь налитая,
свищет ярость кобылья,
из ноздрей вылетая.
Коренник запыленный.
Рвется тройка хрипящих, —
убегает Зеленый,
держит денежный ящик.
Где-то ходит в тумане
безголовая банда…
Только при атамане
два его адъютанта.
Тихо шепчет Подкова
Максиму Удоду:
— Что же в этом такого?
Кокнем тихо — и ходу.
Мы проделаем чисто
операцию эту —
на две равные части
мы поделим монету.
А в Париже закутим,
дом из мрамора купим,
дым идет из кармана,
порешим атамана.
И догнала смешная
смерть атамана —
на затылке сплошная
алая рана.
Рухнул, землю царапая,
темной дергая бровью.
Куртка синяя, драповая
грязной крашена кровью.
Умер смертью поганою —
вот погибель плохая!
Пляшут мухи над раною,
веселясь и порхая.
На губах его черных
сохнет белая пенка.
И рабочих из Киева
в бой повел Травиенко.
Вот и кончена песня, —
нет дороги обману, —
и тепло,
и не тесно,
и конец атаману.
1933–1934
Из неоконченного
Воззвание
Ты пришла ко мне, как мама,
волос тонкий, золотой,
на тебя взглянул упрямо