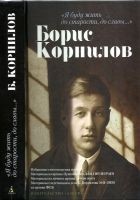«Я буду жить до старости, до славы…». Борис Корнил - страница 7
Вообще, баллады консерватора, монархиста, мистика Жуковского парадоксальным образом пришлись ко двору советской революционной лирике. Сюжет, виртуозное владение стихом — что еще надо молодой поэзии? Борис Слуцкий вспоминал, что со своим другом, Михаилом Кульчицким, в 10-м классе, уже готовясь стать профессиональными поэтами, они перекладывали баллады Жуковского «лесенкой» Маяковского. Получалось эффектно, повторимся, оксюморонно.
Но, помимо романтизма, было и еще одно обстоятельство, влекшее к большевикам. Большевики, городские жители, несли с собой культуру — ту культуру, к которой тянулся Борис Корнилов. Стихи Пушкина и Жуковского, Есенина и Нарбута (которые он полюбил позднее) издавались не в деревне, а в городе, в советских издательствах, потому что других тогда не было. Да, Борис Корнилов любил деревню и с восторгом описывал косьбу, туес, из которого пил квас, лошадь, которую кормил хлебом, но слова, соответствующим образом организованные, чтобы описать, то есть воспеть, все это, дал ему город, в котором были большевики. Во всяком случае, они были знаком города. Вот Борис Корнилов и стал большевиком и был им до последнего своего расстрельного часа, до самых своих кромешных, пыточных дней: как присягнул на верность мировой революции, так и остался ей верен.
Разумеется, в околочоновском отрочестве Корнилова было еще одно обстоятельство, которое нельзя сбрасывать со счета. А оно было важно. Именно для революции, для Гражданской войны. Об этом обстоятельстве написали два принципиально разных писателя в двух своих прославленных книгах: «Кровь легла промеж нас, но ить не чужие ж мы?» (Михаил Шолохов. «Тихий Дон»), «Это ведь только в плохих книжках живущие разделены на два лагеря и не соприкасаются. А в действительности все так переплетается!» (Борис Пастернак. «Доктор Живаго»).
«Переплетение двух лагерей в деревенской действительности» России после Гражданской войны Борис Корнилов не мог не увидеть, не мог не почувствовать. Вот что пишет современный историк Борис Колоницкий в своей статье «Красные против красных» (статья еще не опубликована, и я благодарю Бориса Колоницкого за предоставленный материал): «Не всегда можно понять, где „свои“, а где „чужие“: молодой советский работник губернского уровня, бывший прапорщик военного времени, справляет свадьбу в родной деревне. Гуляют знатно, запасы самогона соответствуют значимости события, приглашены видные люди… Сельские дипломаты и знатоки деревенского протокола внимательно смотрят за тем, чтобы визиты местных чекистов, приехавших из города, и вожаков бандитов, контролирующих соседний лес, не совпали по времени. И те и другие были школьными товарищами жениха».
Сие, как вы сами понимаете, не очень способствует ориентации в социальном пространстве, но зато вбивает в психику опаснейшую особенность — недоверие. Готовность поверить в то, что «свой» может оказаться «чужим». Недоверие не только к другим, но — вот что удивительно и закономерно — к себе.
Мировоззрение
Мировоззрения, продуманного, выстраданного в спорах с самим собой, как у Ольги Берггольц, у Бориса Корнилова не было. Такое мировоззрение появляется у людей образованных, то есть образовывающих самих себя, в этом и заключается образование у людей культурных, то есть впускающих культуру в себя. Упреки современных критиков к Корнилову в его малокультурности были совершенно справедливы и подтверждаются свидетельством человека, знавшего Корнилова лучше, чем они, — свидетельством Ольги Берггольц: «Он был <…> малокультурен, но стихийно, органически талантлив».
Это не означает, что Борис Корнилов не стал бы образовываться. Его очень рано убили, в 31 год. Он довольно быстро вошел в культурную элиту Ленинграда. То, что было соприродно его темпераменту в мировой и русской поэзии, знал назубок. Последний его цикл о Пушкине — как раз доказательство того, что он начал рефлектировать, «впускать культуру в себя», вырабатывать мировоззрение. Но до этого у него было (как и у всякого стихийного, эмоционального поэта) не мировоззрение, но мирочувствие. На редкость точное. (Насколько вообще могут быть точны чувства.)
Во время деревенского погрома, в 1930 году, после года «великого перелома», в пору всеобщей коллективизации, Борис Корнилов пишет реквием по убитой деревне, свое с ней прощание, стихотворение «Чаепитие»: «Во веки веков осужденный на скуку, / на психоанализ любовных страстей, / деревня — предвижу с тобою разлуку, — / внезапный отлет одичавших гостей. / И тяжко подумать — бродивший по краю / поемных лугов, перепутанных трав, / я все-таки сердце и голос теряю, любовь и дыханье твое потеряв. / <…> Деревня российская — облик России, / лицо, опаленное майским огнем, / и блудного сына тропинки косые — / скитанья мои, как морщины на нем».
Самое интересное здесь слово — «психоанализ». Ольга Берггольц была увлечена психоанализом, была, как это сейчас называется, фрейдо-марксисткой. За это стихотворение Борис Корнилов был жестоко раскритикован, чему свидетелем была его будущая жена, Люся Борнштейн, сразу влюбившаяся в человека, против которого все, а он стоит и, несмотря на все и на всех, читает прекрасные стихи. Надо сказать, что с догматической, комсомольско-лапповской точки зрения исключение Бориса Корнилова тогда было абсолютно правомерным. Это и впрямь стихи, враждебные генеральной линии партии, каковой ЛАПП был верен. Другой вопрос, насколько было правильно с житейской, просто человеческой точки зрения совать талантливого парня под гильотину. Тогдашние комсомольцы были строгими и честными в идеологических спорах, не понимая, что эти споры уже являются частью убийственного конвейера, что их поколение будет выбито их собственными руками, не понимая того, что на смену им придут просто бессовестные и безыдейные карьеристы.