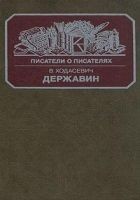Державин - страница 111
У Екатерины стало одним важным соперником меньше. Молва обвиняла ее в том, что Мирович действовал с ее согласия: Екатерине будто бы нужно было устроить так, чтобы у тюремщиков Иоанна Антоновича нашелся повод привести в исполнение данную им инструкцию. Насколько слухи эти были верны, вопрос, не имеющий для нас существенного значения. Важно лишь то, что общественное мнение после убийства Иоанна Антоновича считало, что и Павлу Петровичу придется рано или поздно испытать ту же участь. Злоба Орлова, которому не удались его матримониальные планы, могла только укрепить опасения. Поэтому, чтобы не возбуждать сторонников Павла, Екатерина и теперь принуждена была оставить его на попечении Панина. Фраза, девять лет спустя сказанная ей Храповицкому: «Все думали, что, ежели не у Панина, так он пропал», еще более характеризует то положение, в котором находились дела в 1764 году, нежели то, в каком были они тотчас после свержения Петра Федоровича.
Отношение Екатерины к Панину было чрезвычайно враждебно. Но общество смотрело на него, как на единственную сколько-нибудь прочную гарантию того, что наследника не постигнет участь Петра III и Иоанна VI.
III
Павла учили всяким премудростям: французскому и немецкому языкам, истории, арифметике, геометрии, танцам, закону Божию, рисованию и физике. Из одного перечня предметов читатель может понять, как мало было системы в этом учении. Проходить одновременно арифметику и геометрию с десятилетним мальчиком, не имеющим никакого понятия об алгебре; обучать его физике, предполагающей предварительное знакомство с тою же алгеброй, — до этого могли додуматься только в XVIII веке и, должно быть, только в России. Большинство учителей были самыми заурядными ничтожными личностями. Только архимандрит Платон, впоследствии московский митрополит, преподававший Павлу начала религии, да учитель арифметики и геометрии Порошин оказали действительное и благотворное влияние на своего воспитанника.
Но о Платоне речь будет впереди. Что же касается Порошина, то он всего один год пробыл в числе наставников Павла. Дневник, который он вел. и который послужил причиною удаления его от наследника, навсегда останется не только важным историческим документом, но и вообще одной из самых очаровательных книг, какие нам доводилось читать. В ней рисуются разом два образа равно привлекательных: умного, честного и доброжелательного наставника и прекрасного, не по летам развитого ребенка, каким был Павел. Порошин любил его. Исполняя, кроме должности учителя математики, также и обязанности гувернера, он был неразлучен с великим князем по целым дням. Его беседы с маленьким наследником престола, его заботы об ограждении Павла от разных дурных влияний, которых было так много в тогдашнем порочном обществе, — все это обнаруживает, как глубоко сознавал Порошин свою ответственность перед Павлом и его будущим государством. Павел платил учителю такой же любовью. Он ласкался к нему с доверчивостью, какой уже в те детские годы не питал ко многим из окружающих, звал его братцем. Провинившись, плакал, просил прощения. Вот один из их разговоров:
«За чаем, — рассказывает Порошин, — спросил меня вдруг его высочество: „Скажи мне, братец, пожалуй, вить ты, я чаю, на олове ешь, когда обедаешь дома?“ Я доносил, что всегда почти имею честь при столе его быть и дома не обедаю. Но тем не удовольствуясь изволил продолжать: „Однако, ежели случитца, что занеможешь, или так, захочетца дома остатца, так на чем тогда ешь?“ Я ответствовал, что по моим доходам на чем мне ином есть, как не на олове. Тут, поглядев на меня и ухватя за руку, изволил говорить: „не тужи, голубчик, будешь и на серебре есть“».
Учился Павел отлично. День за днем повторяет Порошин стереотипную фразу: «У меня очень хорошо занимался», или «Госуд(арь) с обыкновенною легкостью понимал все толкования». Особенные способности проявлял Павел к математике, и это дало возможность Порошину записать: «Если бы Его Высочество человек был партикулярный и мог совсем только предаться одному только математическому учению, то б по остроте своей весьма удобно быть мог нашим российским Паскалем».
Паскалем-то, положим, он мог и не сделаться, — но фраза эта, во всяком случае, много говорит об умственных способностях десятилетнего Павла. Следует помнить, что «математическое учение» состояло не в началах арифметики, обычно преподаваемых детям такого возраста; в это время, как видно из другой записи, о пропорциях, Павел кончил арифметику; к тому же он занимался и геометрией.
Суждения, высказываемые Павлом по разным поводам, поражают отсутствием опрометчивости, обдуманностью, верностью, а иногда и меткостью, каких казалось бы нельзя ожидать от ребенка его возраста. Вот, например, одна из порошинских записей: «Его Высочество сего дня сказать изволил: „С ответом иногда запнуться можно, а в вопросе мне кажетца сбитца никак не возможно“». Влияние Порошина вообще нельзя не признать благотворным: он умел сдерживать резкие порывы своего воспитанника, он развивал его ум и сердце: он воистину пробуждал в Павле «чувства добрые».
Все же воспитание Павла имело темные стороны. Бороться с ними Порошин не мог, отчасти по отсутствию к тому возможностей, отчасти же потому, что сам по условиям своего века не понимал их опасности.
Так, не всегда умел он вовремя остановить разговоры, которые велись при наследнике Паниным и другими лицами, — ту грубоватую и фривольную болтовню вельмож XVIII столетия, которой никак нельзя было заводить при ребенке, особенно столь впечатлительном и понятливом, каков был Павел. Не понял также Порошин, что нельзя потакать ранним сердечным волнениям Павла, что «роман» наследника с фрейлиной Чоглоковой, несмотря на всю его своеобразную прелесть, невинность и романтичность, должен быть пресечен, а не поощряем. Когда после встреч с «милой» в театре (где, к слову сказать, шли вовсе не детские пьесы) или на маскараде Павел в истоме «валился на канапе» и «мечтал» — Порошин не знал, что должно ему положить предел и мечтаниям и встречам. Когда рылся Павел в энциклопедии, ища изъяснений на слово «amour», — надо было Порошину отнять у него лексикон, а не записывать умиленно в дневник о галантных чувствах десятилетнего мальчика. Но таковы были воззрения века — и винить за них одного Порошина невозможно. К тому же то, что мог прекратить Порошин, — «любовь» к Чоглоковой, любовные аллегории и маскарадные «махания» (как назывались тогда ухаживания) — было очень невинно по сравнению с тем, бороться против чего Порошину было не по силам. Что мог сделать бедный учитель, когда Панин, великий поклонник женского пола, заводил с Павлом беседы о любви и когда сама Екатерина расхваливала ему в театре всем доступные прелести французской актрисы.