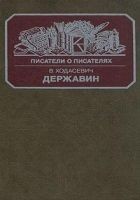Державин - страница 113
III. Жизнь Павла. Рождение. Елизавета (слухи о зав<ещании> в пользу Павла, официально) — сына П(етра) III, «Романова».). Петр III. Переворот 1762 г. Екатерина. Павел — шестилетний претендент, которого надо удалить подальше. Воспитание. Никита Панин. Его нелюбовь к Екатерине. Внушение благоговения к памяти Петра III. [Гамлет. Страх не только за условия жизни, но и за самую жизнь.
Двор Екатерины. Фавориты. Их отнош<ение> к Павлу и его к ним. Презрение к людям, к матери. Неизбежный контраст: желание жизни доблестной, справедливой. Рыцарство и романтизм Павла (Гамлет). Нервы. Прекрасные свойства и необдуманные поступки. Не должен ли был притворяться, как Гамлет, если не сумаc <шедшим>, то почти таким.]. Первый брак. Затеи Нат<альи> Алек<сеевны>. Павел становится опаснее. [«Сумасшедший». Слух передан Екатерине.] Измена жены.
2. Второй брак. Рожд<ение> Алекс<андра> и Конст<антина>. Народные волнения. Самозванцы. Гамлетизм. Отнятие сына. Павел становится вдвойне «претендентом», источником возможного «бунта», в то время как он — законный государь, Е<катерина> — узурпатор, а Ал<ександ>р — воистину претендент. [Тени отца. Самозванцы], спроважение за границу. Попытки править австр. силой (?). Павел при дворе и в семье. (Самый тяжелый период 1781–1786). Завещание в пользу Александра. Смерть Екатерины.
3. Император. Прежние государственные предначертания. Дворянство (чиновничество). Финансы. Первые правит<(ельственные> шаги Павла. Закон о престолонаследии. Павел-император и дворяне. Екатерина держалась дворянами. (Олигархические планы, Импер<ский> совет.) Законы антидворянские и чем они были вызваны. Ропот и противодействие. «Провокация». Невозможность предоставить власть никому, ибо это вело к злоупотреблениям. (Архаров и т. п.) Именно отсюда проистекала требовательность Павла и некоторая) мелочность его мероприятий. Сам доходил до всего.
4. Дворцовая и интимная жизнь. Императрица и Нелидова. Кошмар. Путаница. Партии. Нервы (?)
IV. Судьба. Сеть противоречий. Законы против дворянства — и защита Европы от революционных идей Франции.
Англия. Внешняя политика. Кому мешал Павел? Заговор. Пален. Панин. Рибас. Отставка Панина. Обман Палена. (Возвращ<ение> тучи офицеров и их недовольство.) Двойная игра Палена. Александр. Дверь в комнату М<арии> Ф<едоровны>. Потайной ход к Гагариной. (Не был ли испорчен? Что значит не успел?) История с Саблуковым и караулом. Все знали, что смерть, а не отречение. Принял кого-то впотьмах за Константина. «Как, и Вы, Ваше Высочество?» Путаница, (Темнота.) «Что так долго разговаривать?» Зубовы — птенцы Екатерины. Последний маскарад: расписной труп.
V. Заключение. «Все при мне будет, как при бабушке». Восторги по этому поводу. Кто восторгался и кто, м<ожжет> б<ыть>, плакал. Мы слышали дворян и придворных. Народа мы не слыхали. М<может> б<ыть>, будь у П<авла> истинные, (умные) друзья и честные сотрудники и не пади он жертвой дворцовой революции — он был бы царем, благополучно царствовавшим до «Господней» смерти и любимым «русским» народом. (Раскольники в Москве.) Повторить о «суде истории».
Когда русское общ<ество> говорит, что смерть Павла была расплатой за его притеснения, оно забывает, что он теснил тех, кто раскинулся слишком широко, тех сильных и многоправных, кто должен был быть стеснен и обуздан ради бесправных и слабых. М<ожжет> б<ыть> — и это была историч<еская> ошибка его. Но какая в ней моральная высота! Он любил справедливость — мы к нему несправедливы. Он был рыцарем — и убит из-за угла. Ругаем из-за угла.
... ДЕРЖАВИН
(К столетию со дня смерти)
8 июля 1816 года умер Державин. Если бы ныне, в сотую годовщину смерти своей, он воскрес и явился среди нас, — как бы он рассердился, этот ворчливый и беспокойный старик, на книгах своих писавший просто, без имени: «Сочинения Державина», ибо судил так, что «Един есть Бог, един Державин»!
Как бы он разворчался, как гневно бы запахнул халат свой, как нахлобучил бы колпак на лысое темя, видя, во что превратилась его слава, — слава, купленная годами трудов, хлопот, неурядиц, подчас унижений — и божественного, поэтического парения. С какой досадой и горечью он, этот российский Анакреон, «в мороз, у камелька», воспевавший Пламиду, Всемилу, Милену, Хлою, — мог бы сказать словами другого, позднейшего поэта:
И что за счастье, что когда-то
Укажет ритор бородатой
В тебе для школьников урок!..
На школьной скамье все мы учим наизусть «Бога» или «Фелицу», — учим, кажется, для того только, чтобы раз навсегда отделаться от Державина и больше уже к нему добровольно не возвращаться. Нас заставляют раз навсегда запомнить, что творения певца Фелицы — классический пример русского лжеклассицизма, т. е. чего-то по существу ложного, недолжного и неправого, чего-то такого, что слава Богу кончилось, истлело, стало «историей» — и к чему никто уже не вернется.
Тут есть великая несправедливость. Назвали: лжеклассицизм — и точно придавили могильным камнем, из-под которого и не встанешь. Меж тем, в поэзии Державина бьется и пенится родник творчества, глубоко волнующего, напряженного и живого, т. е. как раз не ложного. Поэзия Державина спаяна с жизнью прочнейшими узами.
XVIII век, особенно его Петровское начало и Екатерининское завершение, был в России веком созидательным и победным. Державин был одним из сподвижников Екатерины не только в насаждении просвещения, но и в области устроения государственного. Во дни Екатерины эти две области были связаны между собою теснее, чем когда бы то ни было. Всякая культурная деятельность, в том числе поэтическая, являлась прямым участием в созидании государства. Необходимо было не только вылепить внешние формы России, но и вдохнуть в них живой дух культуры. Державин-поэт был таким же непосредственным строителем России, как и Державин-администратор. Поэтому можно сказать, что его стихи суть вовсе не документ эпохи, не отражение ее, а некая реальная часть ее содержания; не время Державина отразилось в его стихах, а сами они, в числе иных факторов, создали это время. В те дни победные пушки согласно перекликались с победными стихами. Державин был мирным бойцом, Суворов — военным. Делали они одно, общее дело, иногда, впрочем, меняясь оружием. Вряд ли многим известно, что не только Державин Суворову, но и Суворов Державину посвящал стихи. Зато и Державин в свое время воевал с Пугачевым. И, пожалуй, разница между победами одного и творческими достижениями другого — меньше, чем кажется с первого взгляда.