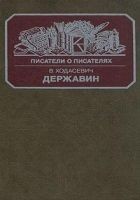Державин - страница 119
Григорий Иванович первое время следил за воспитанием мальчика, но вскоре забросил это занятие. Еще до кончины Марьи Васильевны (что случилось 11 октября 1797 г.), он сделался пьяницей. После смерти жены девичья окончательно стала его гаремом. В Ильинском восстановил он jus primae noctis.
Вследствие того, что брак Марьи Васильевны с Григорием Ивановичем был расторгнут, Ильинское по закону должно было перейти к ее сестре, жене старшего из братьев Травниковых, которая, однако, не пожелала воспользоваться своим правом в ущерб малолетнему племяннику. Андрей Иванович Травников отправился в Петербург хлопотать о том, чтобы Григорию Ивановичу было разрешено усыновить Васеньку: надеялись, что таким образом мальчик получит дворянство и право наследовать своему отцу. После и Ильинское могло быть передано ему по дарственной записи.
В то время второй уже год царствовал Павел I. Зная характер этого государя, можно вполне поверить семейному преданию Травниковых, согласно которому ходатайство увенчалось успехом лишь благодаря довольно странному обстоятельству. На докладе статс-секретаря государь собрался уже положить резолюцию отрицательную. Но тут случайно взгляд его упал на дату Васенькина рождения: 6 июля 1785 г. Император Петр III был убит 6 июля 1762-го. Заметив это совпадение, Павел с приметным удовольствием отменил повеление своей матери и повелел «выблядку без фамилии» впредь быть законным сыном дворянина Григория Травникова, прибавив, однако же, на словах: «В память в Бозе почившего родителя моего и не в пример прочим».
II
Не имея возможности взять Васеньку у отца, родные покойной Марьи Васильевны посылали к нему гувернеров, которые, однако ж, не уживались с Григорием Ивановичем: сам он сыном нисколько не занимался, но никого к нему не хотел допустить. Васенька жил среди отцовского гарема. Наконец, Андрей Иванович снова явился в Ильинское, чуть не силой забрал племянника и повез в Москву.
Это было в 1800 году, Васеньке шел уже шестнадцатый год. Хотели его поместить в Университетский Благородный пансион, но его познания оказались недостаточны. Остановились поэтому на частном пансионе Владимира Васильевича Измайлова, литератора, пламенного поклонника Руссо. Ознакомившись с поэтическими опытами нового своего питомца, Измайлов пришел в ужас от того, что Васенька в стихах изъяснялся валдайским мужицким говором; действительно, в басне «Пегий и Соловый» он между прочим рифмовал так:
Однажды по утру Соловый наш пришотца
Испить воды у ихнего колодца.
Однако литературные способности в молодом человеке Измайлов тотчас почувствовал. Будучи непрестанно обуреваем самыми возвышенными чувствами, он поставил себе целью быть своему воспитаннику не только руководителем, но и наперсником. Васенька платил ему благодарностью и расположением, но от вечной Измайловской экзальтации его, видимо, коробило. Уже тогда обозначились в нем те свойства, которыми он впоследствии отличался: молчаливость и замкнутость.
С помощью Измайлова молодой Травников быстро наверстал потерянное время и через год вступил в Благородный пансион, — как раз тогда, когда Жуковский оттуда вышел. Таким образом, он уже не застал в пансионе тургеневского кружка, не участвовал ни в достопамятных «под-девиченских» собраниях, ни в «Дружеском литературном обществе». Однако вскоре он очутился в самой гуще московской словесности.
Он жил у Анны Степановны Зотовой, родной сестры своего деда. Ей было лет шестьдесят пять. Весь век она провела в девичестве. В ранней молодости она влюбилась в Михайлу Михайловича Хераскова, не встретила взаимности, но примирилась со своим горем, а когда Херасков женился, сделалась приятельницей его жены. Возле Хераскова прошла ее жизнь — даже дом ее находился поблизости от жилища Хераскова, на Б. Хомутовке. Она была одной из тех беззаветно преданных ему женщин, которые окружали его заботами и поклонением, знали наизусть все его стихи, включая и знаменитую «Россиаду», пеклись о его славе. Едва ли не Анной Степановной было пущено в ход утвердившееся за ним прозвище русского Гомера. Теперь, когда слава Михаилы Михайловича приходила в упадок, Анна Степановна старалась поддержать жизнь в его салоне. Разумеется, она представила внучатого своего племянника патриарху московских певцов, Херасков обласкал молодого стихотворца, сказав, что его стихи «гладко писаны» — это была его обычная похвала. Впрочем, Травников понравился ему в самом деле. Белокурый, как все Травниковы, легкий в движениях несмотря на свою деревяшку, — тонкими чертами лица, прозрачностью кожи, свойственной ему тихостью Василий Григорьевич напомнил Хераскову юного Богдановича. Автор «Душеньки» теперь доживал век в деревенском уединении — кот и петух составляли все его общество. Некогда между ним и Херасковым вышла размолвка. Но с тех пор минуло лет тридцать пять — дурные чувства забылись. Правда, под тихостью Травникова таились такие порывы и мысли, какие кроткому Богдановичу и не снились, но Херасков о том не знал.
У Хераскова Травников встречал осанистого Дмитриева и благородного, равно ко всем благосклонного Карамзина, окруженного поклонением молодых поэтов — Жуковского, Мерзлякова, Воейкова. Тут же являлись: учитель Травникова Измайлов, молодой историк Платон Петрович Бекетов и пожилой, но болтливый стихотворец Пушкин с оравой болтливых родственников: двумя сестрицами, братом и женой брата, злой и красивой. Дамская часть салона пополнялась невесткой Хераскова и ее дочерью Александрой Петровной Хвостовой, писавшей философские и мистические сочинения. Кроме литераторов бывали университетские профессора, французские эмигранты, насадители хороших манер и хорошей кухни, и, наконец, просто знакомые — представители хлебосольной и брюзгливой московской знати. Среди этого общества Травников держался особняком. Его молчаливость приписывали смущению, а смущение — молодости, деревянной ноге и сиротству.