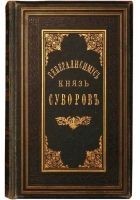Генералиссимус князь Суворов - страница 41
Русская императрица все-таки желала мира с Турцией и искала его. Открылись переговоры в Фокшанах, но не привели ни к чему, главным образом вследствие упорного несогласия Турции на требуемую Россией независимость Крымских Татар. Но так как мир был нужен Турции по меньшей мере столько же, как и России, то великий визирь вошел в прямые переговоры с Румянцевым. Назначили уполномоченных, открылся новый конгресс в Букаресте, дело пошло по-видимому на лад, но в конце, когда добрались до пункта о независимости Татар, предшествовавшее время оказалось потраченным бесполезно. В переговорах прошли 1772 год и часть 1773; затем приходилось снова браться за оружие.
В это время появился на театре войны Суворов. Прибыв из Польши в Петербург, он там оставался до февраля 1773 года, когда ему дали поручение — осмотреть в военном отношении шведскую границу и разведать взгляды пограничных жителей Шведской Финляндии на происшедшую в Стокгольме государственную перемену. Суворов поехал чрез Выборг, Кексгольм и Нейшлот к границе, проживал на ней некоторое время скрытно, разузнавал, наблюдал и с запасом добытых сведений возвратился в Петербург. Тут ему делать было нечего; отношения Швеции к России изменились, опасность близкой войны миновала, и его с новой силой потянуло в Турцию.
Мы видели раньше, что туда его влекло уже давно, с 1770 года, под впечатлением блестящих побед, в том году одержанных Румянцевым. В августе 1770 года Суворов писал бригадиру Кречетникову, находившемуся в Румянцевской армии: «сколь вы счастливы, что вы у графа Петра Александровича... Я же в моих наитруднейших и едва одолеваемых обстоятельствах такового освобождения из оных не предвижу... Даруй Боже скоро увидеться, особливо там, куда вы поехали». В продолжение двух слишком лет желание Суворова оставалось неисполненным, вероятно потому, что он в Польше был нужен, да и похлопотать за него в Петербурге было некому. Будто назло, отец его, долгое время состоявший членом военной коллегии, оставил службу как раз в начале конфедератской войны и вышел в отставку. Зато теперь, по исполнении поручения в Финляндии, Суворов имел возможность сам позаботиться о себе. После его славной боевой службы в Польше, дело оказалось нетрудным. В апреле, 4 числа, военная коллегия определила: находящегося в Петербурге при войсках генерал-майора Суворова, по желанию его назначить и отправить в первую армию, выдав ему высочайше пожалованные на дорогу 2000 рублей. Через 4 дня Суворов получил паспорт на проезд и отправился на Дунай .
Приехав в Яссы в самых первых числах мая, он представился Румянцеву, был назначен в дивизию генерал-поручика графа Салтыкова, получил от него в командование отряд, расположенный под Негоештским монастырем и 5 мая был уже на своем посту. Здесь он встретил старых знакомцев — Астраханский пехотный полк; отряд его состоял кроме того из части Астраханского карабинерного полка, 4 полковых и 5 турецких орудий и из 500 донских казаков, всего до 2300 человек.
Турецкое государство, некогда страшное и грозное, к этой эпохе уже значительно преобразилось. Грубая, но крепкая сила, связывавшая разнородные части империи, ослабела, и государство стало являть признаки не близкого, но несомненного распадения. Совершенное отсутствие законности во всем государственном организме, безнравие, продажность в самых грубых формах, деспотизм, доведенный до идеала, — вот из каких элементов состояла внутренняя жизнь Турции. Такой разительный упадок произошел главным образом от личных свойств Турецких государей. Длинный ряд первых правителей Турции состоял, как на подбор, из лиц способных, энергических, вполне соответствовавших своему положению; последующие турецкие властители отличались свойствами противуположными. Они заперлись в гаремах и предоставили правление визирям; начался застой, потом наступил упадок и мало-помалу перешел в омертвение. Деспотизм, в смысле главнейшего государственного принципа, остался, но утратил характер движущей силы и превратился в эгоистическое самовластие и тиранию.
Такая государственная метаморфоза конечно должна была больше всего отразиться на военной силе и не столько на внешнем её устройстве, сколько на ее духе. Лучшее турецкое войско, янычары, первоначально комплектовавшиеся воспитанными в исламизме детьми христиан, сделались в мирное время ремесленниками, торгашами, промышленниками; война стала для них делом второстепенным, неустранимым неудобством. Войны, прежде беспрестанные, происходили все реже; дисциплина упала; простая и суровая жизнь полудикого война измелилась; остались храбрость, фурия, но пропали стойкость и упорство. Победы над Турками участились; Турция стала терять одно за другим свои завоевания. Но пренебрегать Турками все-таки было нельзя, что они время от времени и доказывали своим противникам и блистательно доказали Австрии, принудив ее к унизительному Белградскому миру, Лишь во второй половине ХVIII столетия в Европе окончательно пропал страх, внушаемый ей Турками, и этим она была обязана исключительно России, т.е. двум турецким войнам Екатерины II.
В эпоху, которая раскрыла Европе глаза насчет истинного значения Турции, Турки сохраняли еще многие качества хороших солдат. Если бы во главе их явился человек, напоминающий султанов старого времени, обладающий крупным военным дарованием, то для успешной борьбы с Турками потребовались бы и другие средства, и другие усилия. Но подобного человека не оказывалось, и свои качественные недостатки Турки возмещали количественно. Их было много; армии их составлялись из огромных, недисциплинированных и не имевших правильного устройства масс. Пехота сражалась беспорядочными толпами, отличаясь однако же довольно меткой стрельбой; это же свойство принадлежало отчасти турецкой артиллерии. Кавалерия действовала врассыпную; в одиночном бою турецкие кавалеристы были значительно лучше европейских. В наступлении Турки отличались страшною стремительностью и порывом, но не настойчивостью; для оборонительной войны в открытом поле не годились и предпочитали укрепленные лагери. Так как недостаток при атаках настойчивости есть недостаток капитальный, особенно при действии против русских войск, то, благодаря своей многочисленности, Турки прибегали к ряду последовательных атак свежими частями войск. Это обстоятельство очень затрудняло полную над ними победу, ибо, убегая после неудавшегося удара, Турки не несли такой значительной потери, которую ведет за собою бой упорный. Через несколько дней после понесенного поражения, их толпы являлись по прежнему многочисленными перед неприятелем, который считал их истребленными. Настойчивое и продолжительное преследование представлялось единственным условием полного поражения этих недисциплинированных банд, которые разбегались и сбегались с одинаковою легкостью. Но трудность продовольствования войск являлась серьёзным к тому препятствием, и препятствие это делалось иногда необоримым вследствие полного разорения, которому подвергали Турки путь своего бегства, Таким образом война должна была затягиваться надолго, истощая противника. В одном только случае успех над Турками мог быть решительным и потери их тяжелыми, — это при удачных штурмах занятых ими укрепленных мест. Но штурмование укреплений и крепостей нельзя возвести в систему войны, и прибегать к этому средству с достаточною надеждою на успех может далеко не всякий.