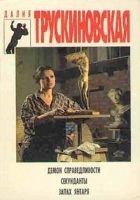Секунданты - страница 32
МАРИЯ. Тебе не стыдно, Саша?
АЛЕКСАНДР. Ах, только не хвали мне эти марлинские повести! Я мальчишкой такого не писывал. Рыцарские турниры, сбрызнутые розовой водицей, и непременно счастливый брак усастого героя златокудрой героиней! А на приправу мужество русских мореходов, русских драгун и русских латников. Если бы я прислал государю на цензуру этакое творение, его бы по высочайшему указу в три дня напечатали и государь изволил бы сказать: «Слышали новость? Этот плут Пушкин… начинает исправляться! Похвально, да и пора бы – десять лет как собирается…»
МАРИЯ. Но ты сам сетовал, что публика тебя забыла, что твои поэмы читают одни ветераны… Ты бы мог наконец закончить «Онегина», и его наверное уж позволили бы напечатать!
АЛЕКСАНДР. Не напишу ни строчки. Единый способ не солгать теперь самому себе есть молчание".
И дальше Пушкин пространно объяснял, почему он за годы каторги и ссылки вообще ничего не написал, хотя прочие даже дружно выпускали самодельные журнальчики. Мария предлагала помощь дюжины своих петербургских родственниц и приятельниц, уже имевших опыт в распространении подобной литературы.
– Если государство вынуждает поэта лгать, хитрить, менять почерк, взывать о помощи к Вареньке Шаховской, чтобы донести до читателя свое правдивое слово, значит, государство одолело поэта, – сказал ей на это Александр. – И в любой миг может его, голубчика, прищучить: «А что это, батенька, за стихоплетство по рукам ходит, уж не ваше ли? Экое неблагонадежное! Не ваше? Ну-ну… будем искать сочинителя».
Это уж было прямым намеком на самого Чесса, его похождения с комитетом госбезопасности, его стихами, изданными «самиздатом», и песнями, тиражированными «магиздатом».
Широков написал правду про Чесса, но уж никак не про Пушкина – просто Широков выкрутился, не мог же он заставить Пушкина в пьесе сочинять стихи, раз ничего не уцелело. Но Чесс бы этого делать не стал – Валька ощутил в себе неукротимое сопротивление широковскому замыслу, и это сопротивление было того же корня, что странные выкрутасы памяти в последние недели.
Срочно надо было поговорить о пьесе с Широковым.
Валька повозился с буквами, нарезал их по трафарету на пол-лозунга, но надоело ему это занятие, запер он конуру и понесся искать Пятого.
Широков, видимо, числился в каком-то учреждении – когда они с Валькой столкнулись во дворе, он был в костюме и при галстуке.
– Привет, – первым сказал Широков, и его круглая физиономия изобразила живейшее внимание. – Нашел что-нибудь?
– Ни фига я не нашел. Разговор есть. Ну, пошли ко мне. Мама чаю заварит, поговорим.
Они поднялись наверх, и Широков с удовольствием содрал с себя и пиджак, и галстук, и рубашку.
– Ма-ам! – завопил он. – Чай тащи!
И развалился в кресле. Справа и слева от этого кресла были столики со всякими мелкими инструментами – наверно, Пятому хорошо было сидеть тут вечерами и мастерить свои парусники… а вон там, на подоконнике, мог сидеть Чесс и напевать с середины новую песню… на подоконнике? Да, пожалуй, там удобнее всего.
И должно быть, Чесс немного завидовал тому уюту, который создал для себя Широков, особенно фрегатам и баркентинам. Сам-то он вряд ли заботился об удобствах и интерьере…
– Ну так в чем же дело? – спросил Широков.
– Я пьесу прочел.
– Какая там пьеса, наброски…
– Ну пусть наброски, вообще мне понравилось, – не зная, как начать, сдипломатничал Валька.
– Ну, спасибо тебе, добрая барыня! Может, мне ее и закончить надо? И опубликовать?
Это уж была явная провокация.
– А чего ты боишься? – вдруг сообразил Валька. – Теперь не то еще публикуют. У меня теща этими делами интересуется – знаешь, сколько через нее этих книг проходит?
– Публикуют в основном покойников, мальчик-Вальчик. Вот Чесса не стало – его стихи вышли. Но есть одна пикантная деталь. Тех, кто расправлялся с давними покойниками, вытащили на свет Божий. Точнее, их кости. А тех, кто допрашивал Чеську, – фиг вам! Может, полсотни лет спустя их чем-нибудь заклеймят. Я все чаще думаю – если убийца до сих пор расхаживает, значит, государство одним этим намекает: ребята, не лезьте не в свое дело, так?
Валька, собственно, хотел поговорить о более возвышенном – о замысле Чесса. Странный поворот Широкова его удивил. Но, если вдуматься, он был в порядке вещей. Карлсон же предупреждал, что время от времени эта компания приступает к поискам убийцы.
– Ты тоже уверен, что его убили? – спросил Валька. – А какие у тебя доказательства?
– Скажи, – торжественно начал Широков, – было у тебя в жизни хоть раз такое состояние, когда начато великое дело и нужно довести его до конца? Состояние Жанны д'Арк?
– Это как? – не понял Валька.
– А так – я должна спасти Францию, больше некому.
– Нет, такого не было, – честно подумав, сказал Валька. – Но ты говори, я попробую понять.
– Попробуй. Чесс написал повесть, небольшую. Отстучал в трех экземплярах. Один сразу сел переделывать, два других пустил по рукам. Ну, они и попали к идиотам… Особой ценности они, кстати, не представляли – ну, вроде развернутого плана событий. И к тому времени, когда Чеську стали трясти, он много успел переделать.
– А про что эта повесть?
– Неважно! – вдруг рявкнул Широков. Это нетленка самая гениальнейшая была, вот что важно! Злая, понимаешь, пронзительная нетленка, вопль отчаяния! И пропала! За ней бы теперь в очередях давились… Только, Вальчик, ее нигде нет.
– Когда она пропала? – по-следовательски спросил Валька.
– Я за два дня до той ночи приходил к Чессу. Он показал мне новый кусок. А после его смерти комнату сразу опечатали. Приехала тетка, комнату вскрыли, я вместе с ней и вошел сразу. Ну, бумаги разобрал, пока она продавала мебелишку. Повести уже не было. И вообще много что пропало. Я знаю, что он уже и для пьесы пару сцен набросал. Куда все подевалось? Последним там побывал Второй. Но доказать, что это он взял рукописи, уже невозможно. Там явно случилось что-то неожиданное. Я не знаю, как Второй добился, чтобы Чесс сиганул в окно, но это его работа.