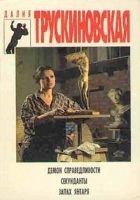Секунданты - страница 39
– Молодец, Валентин! – это парторг, продравшись сквозь толпу, хлопнул его по плечу. – Иди, отдыхай! Сейчас без тебя обойдемся!
Рука парторга втянулась обратно в плотное людское месиво, а Валька побрел в опустевшую инструменталку, соображая, что это за дурдом начинается на заводе. Он чувствовал страшную усталость, как будто энергия, которой зарядили этих внезапно одичавших людей, была высосана из него. Что он такое писал на листах ватмана, с кляксами, не соблюдая грамматики? Кого «долой»?.. Откуда «прочь»?..
Какая-то песня забилась в нем беззвучно и бессловесно. Как будто вымели из головы и слова, и мелодию, осталось только их точное ощущение. И этот ритм слаженной быстрой поступи полка, дивизии, дикой орды со штыками наперевес. Мучаясь от невозможности вспомнить, Валька сидел на табуретке и вертел в пальцах шариковую ручку, вертел, пока не сломал. Тогда он понял, что лучше идти домой.
Перед заводоуправлением все еще галдело продолжение митинга. Валька вдруг почувствовал такое отвращение к шуму, что, выйдя из инструменталки, пошагал совсем в другую сторону – не к проходной, которая была в трех шагах от заводоуправления, а наоборот, к одной из трех известных ему дырок в заборе.
Совершенно разбитый, угнетенный тем, что произошло на заводе, добрался Валька домой, а там теща встретила его похожей новостью.
– Бастуем! – объявила она. – Дожили – бастуем!
– Сумасшедший дом, – в пространство сказал тесть. – Ну что же, побаловались, и будет… Демократы, тудыть их в качель! Валь, тебе женщина звонила, эта, скульпторша. Просила срочно перезвонить в мастерскую. Кто-то там приехал, она тебя познакомить хочет, говорит, это для тебя очень важно.
– Микитин, что ли? – растерялся Валька. Это было некстати. Он надеялся, что к приезду мэтра приготовит и рисунки, и мелкую пластику, а вместо того занимался непонятно чем. – Да, это действительно очень важно. Тут судьба моих дизайнерских курсов решается.
– Какие, к лешему, дизайнерские курсы… – проворчал тесть. – Ты что, вовсе не понимаешь, что творится? Жрать скоро нечего будет, а ему – курсы!
– Талон на зимние сапоги вот дали, действителен три месяца, а на какие шиши выкупать? – спросила теща. – Лето на носу, а они мне зимние сапоги всучили! Илонке сандаликов хоть две пары нужно, я ей в сентябре покупала, думала, как раз к лету, а у нее ножка гляди как выросла! А на толкучке сандалики – полторы тысячи! Детские-то сандалики!
– Демократы хреновы! – ответил на это тесть.
Валька понимал, что все семейство вздрючено, а тут еще он, дармоед, встревает с глупостями. Поэтому он не стал спорить с тестем, а позволил дочке дать ему в руки фломастер.
– Вот зайка у нас сейчас получится, – забормотал Валька, одной рукой обнимая сидящую на колене девочку, а другой рисуя овал и примыкающий к нему кружок. – Вот зайкина головка, вот зайкины лапки, вот зайкин хвостик… А это что? А это зайкины ушки, а это зайкины глазки…
Илонка пыталась тоже ухватиться за фломастер. Потом Валька уговорил ее показать зайку маме, бабе и деду. А сам остался у края обеденного стола с дочкиным альбомом и машинально стал чертить странную геометрическую композицию, что посетила его недавно, похожую на классическое пространственное изображение ядра атома.
Он и вообще любил компоновать причудливые натюрморты из шаров, кубов, призм и конусов, прорастающих друг в друга, особо старательно растушевывая светотени и высветляя блики. А тут несколько шаров вписались в какой-то интересный каркас, и в этом был смысл.
Возясь с шарами, Валька вдруг отчетливо увидел в одном из них, поближе к центру, ту самую заячью морду, которую нарисовал дочке, и еще она была похожа на зайца из папье-маше, довольно неудачно оклеенного кроличьей шкуркой.
Странные узлы плело сегодня воображение. И вдруг никак не получилось вспомнить, чью рожу он нашлепывал гуашью подряд на десяти плакатах, вдохновляемый галдящими девчонками со сборки. Рожа была родная, заводская, даже популярная, но вот фамилия вылетела из головы, хоть тресни, и повторить эту карикатуру сейчас на бумаге он бы тоже не смог.
Заяц обернулся шаром, потом шар опять обернулся зайцем. Валька ругнулся про себя – что же эта разгаданная им тайна преследует его и не дает покоя? Широков признал его правоту – действительно, экспериментатор Чесс мог додуматься до возвращения Александра Пушкина в Михайловское, что сулило полный разгул фантазии. И что поэт в пьесе непременно погибал на дуэли, Широкову тоже понравилось. Ему-то понравилось, а вот Вальке – расхлебывай теперь чужую творческую галлюцинацию… Да еще принадлежащий ныне Изабо кавалерийский пистолет образца 1813 года, который намертво привязался, с одной стороны, к зайцу, а с другой – к снежной равнине, в которой из конца в конец протоптана тропинка. Длиннющая такая тропинка, куда длиннее тех, что положены сходящимся бойцам по дуэльному кодексу…
Убедившись, что на него уже не обращают внимания, Валька тихонько позвонил в мастерскую. Изабо назначила ему срочную встречу в фойе Дома работников искусств. Голос у нее был очень озабоченный.
Изабо толковала, что мэтр на месяц взял там номер, что удобнее его посетить в такой вольготной обстановке, чем в городской квартире, а Валька вдруг услышал снова тот сегодняшний ритм, но только образованный уже не шагом, а словом.
– Парам-пам-пам, парам-пам-пам, бей, барабан, парам-пам-пам, гуди, дурман!
Тьфу ты, да это же «Императорская гвардия», вспомнил Валька, она самая! «Печатай шаг, блести, звени, металл кирас, войска идут на истребление зараз! А кто зараза – император скажет нам! Бей, барабан, гуди, дурман, парам-пам-пам».