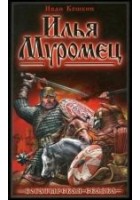Илья Муромец. - страница 42
Гордей и Дверяга ехали шагом по подъему, для того чтобы, не рвя лишний раз жилы, поднять коней вскачь, надобно шагов триста-четыреста, так что жизни купцу оставалось — туда рысью, обратно скоком. Владимир размашисто перекрестился и громко сказал:
— Через жадность свою купец Гордята живота лишается, — и добавил почти грустно даже: — А в том вины моей нет.
Видно, хлебный гость услышал слова князя, потому что изогнулся и, захлебываясь пылью, завопил:
— По три! По три гривны кадь отдаю!
— Бог с тобой, — покачал головой князь. — В последний миг торговать рядишься, на что тебе эти гривны на том свете. Давайте, молодцы, не весь день тут стоять, дел еще — не переделать.
Гордята хватал руками песок, вот всадники въехали на бревенчатую мостовую — осталось проехать двести шагов.
— По две гривны, княже! — что есть мочи кричал почуявший смертный страх купец. — По две!
— Ты бы помолился, пока время есть, — звучно и печально ответил Владимир. — Хоть «Отче наш», как раз успеешь.
Конники неумолимо приближались к церкви — оттуда прямой разгон до столба. Сбыслав, повидавший всякого, стиснул зубы: одно дело снять головы переветникам и крамольникам, даже на кол посадить — это ничего, тут князь в своем праве. Но отдать купца, пусть и такого, как Гордята, на лютую, еще обрева обычая расправу — от этого мороз продирал по коже. Молодой воевода вспомнил из детства, как захмелевший Якун, бывало, начинал рассказывать про старое, лихое время, когда он ходил под рукой юного князя, замиряя и собирая Русскую землю. Тогда матушка, а потом и нянюшка уводила маленьких Ингвара и Сбыслава из горницы, в которой мужи гремели братинами, хохотали, вспоминая, как кони, бывало, ходили по бабки во вражьей крови. Старый, лютый обычай правил тогда от Днепра до Ильменя, брат шел на брата, сдавшимся не давали пощады. Якуничу приходилось проливать кровь в бою, случалось и казнить, хоть и не любил он этого и старался сделать быстро: камней за пазуху — и в воду или на березу за шею. Здесь было иное — вспоминались глухие, страшные рассказы о судьбе несчастливого Игоря и кровавой мести Ольги. Бог не велел убивать, но раз уж без этого не обойтись — так хоть бы делать это споро, не затягивая... Сбыслав скосил глаза в сторону князя: Владимир улыбался, но как-то странно, казалось, князь чего-то ждет.
Порубежники развернулись у церкви и пустили конец легкой рысью.
— Гри-и-и... Грииивну!!! — завыл Гордята.
Князь снова перекрестился, в толпе послышались вздохи, одни крестились вслед за Владимиром, другие отворачивались, третьи, наоборот, смотрели во все глаза, радуясь нежданной забаве. Дверяга и Гордей разгоняли коней, купец молотил руками, ругался, затем вдруг последним усилием вскинул голову:
— За две ка... Кади! Гривну!
— А ну стой, — рявкнул Владимир.
Голос князя был особенный, и порубежники разом осадили коней, перешли на шаг и остановились. Красно Солнышко медленно подъехал к лежащему в пыли купцу, Сбыслав держался сзади слева от государя. Гордята был жалок — и следа не осталось от былой спеси, богатый кафтан растрепался, нательная рубаха задралась, открыв белое брюхо. По лицу гостя, серому от пыли, текли слезы, промывая мокрые дорожки.
— Ну что, Гордята? — ласково спросил князь. — Что сказать хотел? Я немолод уж, слышу плохо. По сколько рожь отдаешь?
На лице Владимира была все та же усмешка — злая, волчья, и Сбыслав вдруг догадался — да это же все игра! Скоморошество! Красно Солнышко пугал дурных купцов, чтобы не думали наживаться, пока город в осаде, он и зарубил-то не самых тороватых, а самых крикливых. Но, присмотревшись внимательней к своему господину, воевода понял еще: вздумай Гордята сейчас упираться, Владимир махнет рукой, и купца разорвут на две половины.
— По гривне... За три кади, — купец был неглуп.
— А? — князь наклонился, приложив руку к уху. — Не слышу я, говорю ведь — стар совсем, не тот я. По сколько кадей-то? Пять?
— Пя... — Гордята и впрямь был умен, а не просто тороват. — За так отдам, княже. Как печенеги у ворот стоят — за так отдам, воям, да жинкам, да деткам. На тот свет гривны не заберешь...
— А что с Калином, раздумал договариваться? — так же улыбаясь, но тихо, одному Сбыславу слышно, спросил Владимир.
— Раздумал, княже, — толстые губы купца исказила такая же усмешка. — Вот подумал сейчас — и раздумал. Потому — грех это.
— Вон как, — лицо князя лучилось отцовской добротой. — А и рад же я, Гордята, вот не поверишь — плакать хочу, не каждый день видишь, как человек свой товар вот так, за Русскую землю отдает.
Он помолчал, и вдруг разом уже не только оскалом стал похож на волка, прорычав:
— А если ты, собака, еще хоть раз мне поперек слово молвишь, хоть раз, я не только тебя — весь твой род сперва у тебя на глазах конями порву. Понял меня?
Гордята кивнул, челюсть купца дрожала.
Князь выпрямился и повернулся к порубежникам:
— Улеб!
Воевода смотрел все так же холодно, равнодушно, но Сбыслав вдруг заметил, что костяшки пальцев витязя побелели — так сжал он поводья. «Охти нам, — со странным спокойствием подумал Якунич. — Нельзя так с людьми, с огнем играешь, княже!»
— По Правде я могу выплатить виру за убитых, — Владимир устало провел рукой, приглаживая седые волосы. — Ты прости, не время мстить. За воев плачу пятьдесят гривен, за жен — по двадцать, за детей — по пять.
Толпа ахнула — за безвестных пограничных воев князь давал виру, как за старших дружинников, за жинок — как за детских, а за малых детей, как за взрослых огнищан — о такой щедрости никто и помыслить не мог.