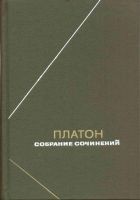Собрание сочинений. Том 1 - страница 290
79
Согласно Сократу, по существу только истинный философ может быть воспитателем народа и мудро руководить им. Эта мысль пронизывает «Государство». В идеальном государстве философы специально воспитываются для этого (VI 498с – 504е) и именно они управляют государством, созерцая сущность идей, а не внешнее разнообразие чувственного мира (V 473с – 480а). Платон пишет: «Пока в городах не будут либо философы царствовать, либо нынешние цари и властители искренне и удовлетворительно философствовать, пока государственная сила и философия не совпадут в одно… дотоле… не жди конца злу».
80
Ниже Сократ рассказывает миф о том, как Зевс учредил суд над мертвыми. У Платона не раз встречаются упоминания и описания судьбы душ в загробном мире. В «Федоне» (107с – 114с) рисуется подробный путь души в Аид, а также «истинное небо, истинный свет и истинная земля» иного мира, где все прекрасно, все полно света и сияния. Вместе с тем подробно изображена топография Тартара и подземных рек. Те же, «кто благодаря философии очистился полностью, впредь живут совершенно бестелесно и прибывают в обиталища еще более прекрасные» (114с). В «Федре» (245с – 249d) есть образ вселенской бессмертной души, ибо «вечно движущееся бессмертно». Каждая отдельная душа подобна «слитой воедино силе упряжки крылатых коней и возничего» (246b). Зевс, воинство богов и демонов на крылатых колесницах мчатся по небу, а за ними жадно стремятся попасть в занебесную высь души смертных, но их тянут вниз все их земные несовершенства. Здесь же, в «Федре», – орфико-пифагорейское учение о переселении душ. В «Государстве» (X 614а – 621b) некий памфилиец Эр рассказывает о странствии своей души по царству мертвых, о суде над умершими и о жребии, который выбирают души, чтобы вновь возродиться на земле. Там же знаменитое описание небесных сфер с поющими сиренами и мирового веретена между коленями Ананки – богини Необходимости.
Среди источников платоновских описаний загробного мира в первую очередь необходимо указать Гомера: Одиссей спускается в царство мертвых, беседует с тенями, вкусившими свежей крови и обретшими память (Од. XI 145—234). Кроме беседы с душами Агамемнона, Ахилла и Аякса, которые сохранили все свои земные страсти и горести (ст. 185—564), Одиссей наблюдает, как Минос, сын Зевса, с золотым жезлом правит суд над умершими, а они, «кто сидя, кто стоя», ждут своей очереди (ст. 568—571). Наконец, Одиссей видит наказания преступников Тития, Тантала и Сисифа (ст. 576—600). Два последних момента наиболее интересны, так как здесь чувствуется уже орфическое представление о справедливом воздаянии душе за ее земные проступки. У. Виламовиц-Мёллендорф, который еще в прошлом веке отметил данное место как орфическую вставку (Wilamowitz-Moellendorff U. v. Homerische Untersuchungen. Berlin, 1884), впоследствии, в 30-х годах XX в., в своей книге «Вера эллинов» категорически отказался от этой мысли (Der Glaube der Hellenen. 3. Aufl. Basel, 1959. S. 198). Во всяком случае XI песня «Одиссеи» настолько сложна, что здесь можно наметить в представлениях Гомера о душе шесть разных историко-культурных напластований (см. Лосев А. Ф. Античная мифология в ее историческом развитии. С. 23—25).
Однако даже если не считать гомеровских преступников и суд над ними орфической вставкой у Гомера, то у Пиндара, этого чистейшего орфика, можно найти подлинные истоки платоновского представления о загробном мире. В «Олимпийских одах» (II 54-88 Snell-Maehler) рисуется стройная концепция загробной судьбы душ. Преступления, содеянные на земле, наказуются под землей, а достойные люди проводят век свой «бесслезно» и «радуясь» «среди почтенных богов». Те же, кто трижды уже испытал перевоплощение в обоих мирах, совершают путь на Острова блаженных, где сияют золотые цветы, которыми увенчивают себя праведники после суда Радаманта (о нем и Миносе см.: Апология Сократа, прим. 54). Среди этих праведных душ пребывают Пелей (отец Ахилла), герои Кадм и Ахилл. У Пиндара, таким образом, мы находим идею посмертного воздаяния, Острова блаженных, суд Радаманта и круговорот душ. Поэт замечает, что «стрелы в его колчане звучат для разумных», ибо «мудрый рождается знающим многое», а «для всех» нужны толкователи. Тем самым Пиндар как бы обращается к посвященным и отделяет их от тех, кому неведомо тайное учение орфиков.
Как видно из рассказа Сократа в «Горгии», Гомер дает Платону основные моменты мифа: раздел власти между Зевсом, Посейдоном и Плутоном (Ил. XV 187—193), представление о Тартаре (Ил. VIII 13-16) и о месте для праведников (Од. IV 561—569), о «Елисейских полях», где нет ни снега, ни бурь, ни дождя, а веет лишь Зефир, наконец, идею загробного суда Миноса и загробного воздаяния. Правда, Острова блаженных у Гомера не упоминаются, но они есть у Гесиода (Труды и дни 166—173), так же как и «сумрачный Тартар», в котором залегают «корни земли и горько-соленого моря» (Теогония 721—728). Но дело даже не только в таких подробностях, что умерших в Азии будет судить Радамант, а умерших в Европе – Эак: первый – сын Зевса и финикиянки Европы (Ил. XIV 321), а второй – сын Зевса (Ил. XXI 189) и, по Пиндару, нимфы Эгины (Isthm. VIII 15а – 23 Snell-Maehler), и не в том, что орфическая идея возмездия встречается у Эсхила (Умоляющие 230 сл.), а распутье дорог (Горгии 524а), по которому идут души, есть пифагорейский символ, выраженный греческой буквой «ипсилон» (Т). Дело в том, что в диалогах Платона все эти элементы складываются в одну стройную картину, части которой, разбросанные по диалогам «Горгии», «Федон», «Федр» и «Государство», соответствуют, вместе собранные, орфической концепции Пиндара, целостно преподанной им во «II Олимпийской оде».