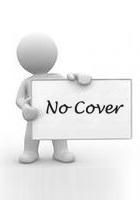Въ огнѣ гражданской войны - страница 12
Жизнь научила всѣхъ сыновъ Россіи любить свою страну новой, болѣе почвенной и дѣйственной любовью. Начинаетъ зарождаться русскій патріотизмъ новой формаціи, сочетающій въ себѣ идеализмъ съ реализмомъ. Прежній фатализмъ и пассивность начинаютъ смѣняться тягой къ дѣйственной активности. Максимализмъ потерпѣлъ слишкомъ явственный и ощутительный уронъ, чтобы, въ оппозицію ему, не стало зарождаться чувство практической мѣры. На горькомъ опытѣ попытки осуществленія интернаціоналистической программы все быстрѣе стало строиться національное самосознаніе, закаляемое бездной національныхъ униженій, столь болѣзненно ощущаемыхъ, какъ въ самой Совдепіи, такъ и въ бѣженствѣ. Теоретически—инстинктивное отрицаніе началъ государственной власти и принужденія смѣняется осознаніемъ идеи государственности, всеобщимъ теперь преклоненіемъ передъ нею.
Этотъ сдвигъ и эволюцію переживаютъ и пережили представители, какъ старшаго, такъ и младшаго поколѣнія; и отцы, и дѣти выходятъ съ преображенной психикой изъ революціонной бури. Въ горнилѣ испытаній едва ли не всѣ возрастные пласты пересмотрѣли свои вѣрованія и взгляды.
Этотъ сдвигъ общественныхъ настроеній рисуется, какъ едва ли не всеобщій и, во всякомъ случаѣ, глубоко коснувшійся всѣхъ классовъ и группъ населенія, въ частности — крестьянскаго. Повидимому, исторической судьбѣ нужны были искупительныя жертвы, чтобы просвѣтлить государственно-національное сознаніе населенія Россіи, всѣхъ его слоевъ и группъ.
а. Крестьянство
Русское крестьянство, темное, загнанное, жадное, забитое и невѣжественное, таило въ себѣ отрицательныя черты, накопленныя въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ безправія, безграмотности, беззаконія и безземелія. Все это дало обильные всходы въ революціонный періодъ. Одни — большинство — не предвидѣли характеръ этихъ всходовъ, не зная народа, убаюканные слащавымъ народничествомъ значительной части нашей литературы. Другіе, знавшіе деревню не изъ книгъ, а изъ живой дѣйствительности, не сумѣли — и даже не попытались — канализировать темныя стороны крестьянскаго быта, парализовать дѣйствіе разрушительныхъ, анти-культурныхъ силъ. Въ итогѣ, ни изъ нѣдръ крестьянства, ни изъ среды той интеллигенціи, которая стояла ближе къ деревнѣ — земскій третій элементъ, кооператоры, — не выявлено было противоядіе губительной работѣ разложенія и развращенія.
Большое, конечно, горе, что русскій либерализмъ, русскій радикализмъ, русскій соціализмъ, въ общемъ, не достаточно точно знали русскій народъ. Создано было туманное, книжное представленіе, далекое отъ дѣйствительности, полное иллюзій и прикрасъ. Событія 1905—1906 г.г. не оставили достаточно глубокаго слѣда, по крайней мѣрѣ, они не заставили замѣнить розовыхъ очковъ, сквозь которыя принято было разсматривать жизнь деревни и крестьянства, обыкновенными очками, съ обыкновенными бѣлыми стеклами, приспособленными для близорукихъ. «Деревня» И. А Бунина, написанная еще въ 1909 г., дала картину сѣрыхъ деревенскихъ будней, съ ихъ пьянствомъ, темнотой, дикостью, злобой, эгоизмомъ, узостью, жадностью, косностью и мракомъ. Но и бунинская «Деревня» не убила многихъ иллюзій, не привила любви къ жизненной правдѣ, не научила смотрѣть истинѣ въ глаза, не предостерегла отъ многихъ горькихъ разочарованій, столь остро сказавшихся 8 лѣтъ спустя послѣ опубликованія «поэмы» Ив. Бунина. Такова, впрочемъ, судьба литературныхъ произведеній, дававшихъ трезвую и реальную оцѣнку жизни деревни. И у Глѣба Успенскаго вырывалось восклицаніе по адресу мужика: «съ нимъ не сольешься, а сопьешься», но и этотъ крикъ отчаянія какъ-то не былъ услышанъ и правильно учтенъ. Въ равной степени, только мимоходомъ коснулась общественнаго сознанія и мягкая сатира чеховскихъ «Мужиковъ».
Если въ помѣщичьихъ кругахъ и знали подлинный ликъ деревни, то не только обычно ничего не дѣлали для его измѣненія и улучшенія, но, наоборотъ, опекунской плетью и «отеческой» эксплуатаціей только заостряли положеніе. Нужно было давно понять, что плетью обуха не перешибешь, что упорнымъ эгоизмомъ одной стороны не излечить не менѣе жадной и упорной тяги къ землѣ другой стороны. Всего этого не хотѣли понять ни въ Совѣтѣ объединеннаго дворянства, ни въ царскомъ правительствѣ. Въ результатѣ — ростъ озлобленія, накопленіе мстительныхъ чувствъ, безпросвѣтное невѣжество, потомственный алкоголизмъ. Никто и не стремился внести примиряющее начало, ослабитъ правовой и экономическій гнетъ, просвѣтить, однимъ словомъ — разрядитъ атмосферу, внести въ нее хоть немного больше свѣта, справедливости и человѣколюбія. Въ итогѣ — скопилось столько взрывчатыхъ газовъ, что сотрясеніе и получилось небывалое по количеству жертвъ и по своей разрушительной силѣ.
Татарское иго, крѣпостное право, война — таковы этапы жизни русскаго крестьянства, подготовлявшіе разгулъ его низменныхъ страстей въ періодъ революціи. Вѣками накоплялась злоба, ненависть, неуваженіе къ личности, обезцѣненіе цѣнности жизни и т. д. Три года войны были для темныхъ умовъ длинной чередой организованныхъ и дозволенныхъ убійствъ. На войнѣ — «жизнь-копейка», и въ революціи крестьянское сознаніе не дошло до уваженія къ цѣнности жизни. Пролитіе крови на внѣшнемъ фронтѣ получило какъ бы продолженіе въ кровопролитіи на фронтѣ внутреннемъ. Изъ кроваваго зарева войны, въ нездоровыхъ испареніяхъ милитаризма родилась революціи 1917 г. и съ самаго своего начала носила она въ себѣ зачатки кроваваго безумія. Сперва, нѣсколько времени, безуміе это не проявлялось, но тѣмъ сильнѣе и грубѣе оно сказалось съ конца лѣта и съ осени 1917 г. Красный смѣхъ зазвучалъ по всему пространству русской земли и раскаты его были грубо-зловѣщи.