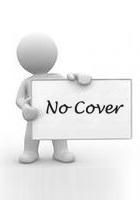Въ огнѣ гражданской войны - страница 49
Характерно, что сами большевики, обсуждая причины пораженія «бѣлыхъ», выдвигаютъ на первый планъ не столько вопросы чисто военные, сколько — внутреннюю политику своихъ противниковъ. Такъ, въ брошюрѣ, озаглавленной «Разгромъ Врангеля», изданной большевиками въ Харьковѣ, членъ революціоннаго военнаго совѣта южнаго фронта Гусевъ писалъ (цитирую по большевистской газетѣ «Путъ» — Гельсингфорсъ): «У Врангеля — "лучшая въ мірѣ конница", одержавшая рядъ побѣдъ надъ численно болѣе превосходной красной пѣхотой, "самое идеальное войско по силѣ удара, по маневренной гибкости", сильные офицерскіе кадры, высокія боевыя качества артиллеріи. Наконецъ, самъ Врангель — по мнѣнію Гусева — крупный военный талантъ. Что было противъ Врангеля? Многочисленная пѣхота, плохо обученная ... слабо снабженная, къ тому же, не разъ битая врангельскими войсками... Малочисленная кавалерія, не вышедшая еще изъ пеленокъ партизанщины, лишенная броневиковъ и аэроплановъ. И, однако, Врангель былъ разбитъ. Былъ разбитъ потому, что, кромѣ войска, у него не было опоры. Въ моментъ наибольшихъ успѣховъ Врангеля, совѣтская власть сумѣла въ очень короткій срокъ напречь всѣ силы и выставить боеспособную армію. Въ сущности, Врангель былъ разбитъ раньше, чѣмъ пришли съ западнаго фронта освободившіяся послѣ польскаго перемирія красныя части. Повторилась обычная картина революціонной войны. Технически спаянная бѣлая армія чернаго авантюриста разбилась о самопожертвованіе революціонныхъ массъ и объ энергію революціонной власти.»
Какъ бы ни расцѣнивать этотъ «отзывъ», какъ бы ни усматривать въ немъ рьяное желаніе Гусева показать, что, несмотря на все совершенство военной организаціи въ арміи Врангеля, онъ, Гусевъ, все же ее «разбилъ», — нельзя не призадуматься надъ большевистскими указаніями на связь военныхъ успѣховъ съ отношеніемъ къ арміи населенія.
Арміи предстоитъ еще сыграть въ Россіи видную и важную роль по водворенію порядка, борьбѣ съ анархіей, охраненію государственнаго начала и національной независимости отъ покушеній, откуда бы они не исходили. Повндимому, выполненіе этой задачи не выпадетъ на долю одной только бѣлой или красной арміи, но ихъ комбинированными усиліями будетъ пройденъ многотрудный путь возсозданія Россіи. Только, когда удастся возродитъ единую національную русскую армію, не бѣлую, красную или зеленую, а — идущую подъ національнымъ трехцвѣтнымъ бѣло-сине-краснымъ знаменемъ, можно будетъ быть болѣе или менѣе спокойнымъ за дальнѣйшія судьбы россійской государственности.
Армія должна быть внѣ партій и партійности; преступна, поэтому, была партійная пропаганда въ арміи, которая велась умѣренно-соціалистическими партіями еще до большевиковъ, равно какъ недопустимы и рѣчи партійнаго характера, произносившіяся въ началѣ 1921 г. въ лагеряхъ подъ Константинополемъ, въ которыхъ была расквартирована эвакуированная изъ Крыма армія, ген. Врангелемъ, считавшимъ возможнымъ передъ солдатами говорить о своихъ политическихъ противникахъ изъ анти-большевистскаго же стана въ такихъ выраженіяхъ, какъ «дрянь» и т. д.
Можно для будущаго считать незыблемо установленнымъ наличіе въ арміи прочной и разумной дисциплины. Кризисъ, имѣвшій мѣсто въ этой области, изжитъ, повидимому, окончательно. Характерно, что большевики сами отказались отъ своихъ первоначальныхъ взглядовъ на дисциплину въ арміи, доводя ее въ своихъ частяхъ до предѣловъ возможнаго. Печальной памяти приказъ № 1, всѣ эти солдатскіе комитеты въ арміи и совѣты солдатскихъ депутатовъ, съ ихъ претензіями на выборъ начальниковъ, съ ихъ вмѣшательствомъ въ распоряженія, даже — оперативнаго характера, — сослужили свою службу въ томъ смыслѣ, что наглядно показали, чего быть не должно, чего допускать никоимъ образомъ нельзя.
Вопросъ о втягиваніи арміи, какъ таковой въ активную политику, былъ не только остро поставленъ, но и практически разрѣшенъ русской революціей. Успѣхъ революціи въ значительной степени зависѣлъ отъ того, что съ первыхъ же фазъ революціи армія послужила одной изъ основныхъ ея точекъ опоры. Но тутъ активная роль арміи въ революціи не закончилась, армію стали втягивать — и, притомъ, даже безъ достаточныхъ основаній и нужды — и въ послѣдующія фазы революціоннаго движенія. Аполитичности арміи былъ нанесенъ рѣшительный ударъ и, скатываясь по наклонной плоскости, армія превратилась въ своеобразныхъ преторіанцевъ революціи. Первый толчекъ въ этомъ отношеніи дали даже не большевики, а соціалисты болѣе умѣренныхъ толковъ. Эсеры ц эсдеки едва ли ни съ первыхъ фазъ революціи стали вести усиленную пропаганду въ арміи, толкая отдѣльныя войсковыя части на выступленіе, вовлекая отдѣльныхъ военныхъ на различныя дѣйствія чисто политическаго характера. Волна митинговъ залила фронтъ, въ ближайшемъ тылу жизнь въ казармахъ превратилась въ сплошное митингованіе. Умѣренно-лѣвыя не соціалистическія партіи первоначально сознательно уклонялись отъ пропаганды въ войскахъ, потомъ, считая нужнымъ хоть какъ-нибудь противостоять пропагандѣ крайне-лѣвыхъ дѣлали кое-какія робкія попытки выступленій и передъ солдатской аудиторіей, но успѣха, уже конечно, не имѣли.
Помню, какъ лѣтомъ 1917 г. мнѣ привелось выступать на предвыборномъ собраніи въ одесскую городскую думу, спеціально устроенномъ для солдатъ въ громадномъ казарменномъ дворѣ одного изъ пѣхотныхъ полковъ. Едва ли не весь полкъ былъ выстроенъ въ обширномъ казарменномъ дворѣ, ораторы смѣнялись и излагали свои программы. Надъ возвышеніемъ, на которомъ выступали ораторы, развѣвалось красное знамя интернаціонала. Подъ этимъ знаменемъ пришлось говорить и ораторами, рѣзко отвергавшимъ интернаціонализмъ. Подобнаго рода рѣчь не пришлась по вкусу аудиторіи, которая сугубо шумѣла, прерывала неугоднаго оратора, едва давъ ему договорить. Въ другой разъ, въ аудиторіи, гдѣ была значительная группа раненыхъ солдатъ, оратору, не соціалисту, стали угрожать костылями собравшіеся вокругъ эстрады «распропагандированные» инвалиды войны. Легко можно себѣ представитъ ощущеніе оратора, всегда считавшаго себя другомъ солдатской массы, когда ему вдругъ стали угрожать избіеніемъ костылями и кто же? — раненые солдаты родной русской арміи...