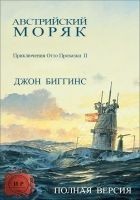Австрийский моряк - страница 105
Я помню крики «молодцы!» команде стрелков, а потом на удивление приятное ощущение, когда меня сбило с ног, и ночь раскрасилась сиянием фейерверка, совершенно затмившего пламя на борту траулера. Шум был скорее похож на шипение газовой горелки. Несколько минут спустя меня извлекли из-под обломков боевой рубки. Одежда превратилась в лохмотья, оказалась повреждена барабанная перепонка, а в остальном я остался цел и невредим. Штойерквартирмейстеру Пацаку, стоящему за моей спиной, не так повезло: он вылетел за борт и погиб.
Мы прошли через проливы к тому месту, куда мог прибыть аэроплан прикрытия из Дураццо, но боевая рубка U26 была уничтожена. Я провел неделю в плавучем госпитале, после чего получил двухнедельный отпуск на время ремонта лодки в Поле. Железные дороги двуединой монархии находились теперь в таком состоянии, что не могло быть и речи о поездке в Польшу, к Елизавете и нашему сыну. Меня вызвали в Военное министерство, так что Елизавета договорилась оставить ребенка на попечении моих кузенов и приехала в Вену, чтобы побыть со мной в квартире тети Алексии.
«Es gibt nur ein Kaiserstadt, es gibt nur ein Wien» пели раньше в пивных, еще в довоенные времена, казалось, в предыдущей жизни - «Есть только один имперский город, есть только одна Вена». Вена в начале 1918 года стала городом, который пугающе отличался от элегантной, шумной столицы четырехлетней давности. Разница не была очевидной на первый взгляд: по-прежнему цвели деревья в Пратере; давали концерты в опере и в зале Венской музыкальной ассоциации; люди читали газеты в кофейнях.
Но все же это был картонный фасад, и при этом из тонкого картона - голод и отчаяние скрывались за каждым углом. Не вздутые от голода животы и похожие на скелеты фигуры, как в Африке: при первом взгляде люди выглядели вполне прилично. Но если приглядеться внимательней, это была одутловатая, серо-белая отечность истощения и безнадежности, от нескольких лет скудного и дрянного питания. Люди волочили ноги при ходьбе. Даже в самый теплый день они дрожали от холода. Старые и больные шли пошатываясь и падали замертво на улице от сердечной недостаточности. Дети с серыми лицами были слишком вялыми, чтобы играть, их кости стали хрупкими от недостатка витаминов. На утомленных лицах читалась невысказанная мольба: «Когда же все закончится?».
Мы с Елизаветой поехали в «Театер ан дер Вин» в Шестом округе Вены, послушать оперетту Легара «Там, где жаворонок поет» — Тотенхейн и Луиза Картуш, если мне не изменяет память. Спектакль был дневной, потому что общественный транспорт больше не работал и не осталось газа для вечернего освещения ухабистых улиц. Представление больше походило на заупокойную мессу, чем на оперетту, ее играли при свете ацетиленовых ламп в холодном, полупустом здании перед солдатами с итальянского фронта в увольнительной — многие из них, несомненно, смотрели последний спектакль в своей жизни.
Мы сидели, кутаясь в пальто, скорее опечаленные непреклонным, отчаянным весельем исполнителей. После спектакля мы молча шли домой по грязным серым улицам, засыпанным осыпающейся штукатуркой. На Мариахильферштрассе мы остановились посмотреть на закопченные витрины: либо пустые, либо со все более ужасающе очевидной наготой, демонстрирующие зубной порошок или нескольких предметов одежды из целлюлозы. Мимо проползла пара фиакров, запряженных настолько отощавшими клячами, что удивительно, как они держались на ногах, не говоря уже о том, чтобы везти пассажиров. С урчанием проехали армейские машины на шинах из пеньки. Все это глубоко удручало.
В тот вечер мы с Елизаветой разговаривали в постели.
— Отто, мы должны уехать отсюда.
— Понимаю, в Вене сейчас ужасно. Но война ведь когда-нибудь закончится. Конечно же, это не может продолжаться вечно. Через какое-то время все вернется в нормальное состояние.
— Откуда тебе знать, что это ненормально? Нет, Отто, не только из Вены: я имею в виду из Австрии - даже из Европы, как только закончится война. Нашего мира уже нет, он не просто мертв, он полностью сгнил. Не знаю, что будет после него, но наверняка нечто жуткое, и люди даже этот старый мир будут вспоминать как вполне приемлемый. Нет, любимый — нужно уезжать отсюда: в Америку, Канаду, да хоть в Бразилию.
— Лизерль, я люблю тебя, но иногда мне кажется, что ты сумасшедшая. Я кадровый морской офицер дома Габсбургов: у меня нет выбора.
— Тогда, вероятно, мы, сумасшедшие женщины, иногда видим всё более ясно, чем кадровые морские офицеры. Почему бы нам не эмигрировать? Ты умный и хорошо знаешь английский язык, а я говорю по-французски и по-итальянски. Ты всегда можешь стать инженером, а я могу выучиться на врача. В мире есть и другие места кроме этого.
— Ты настолько же сумасшедшая, насколько прекрасная. Какая жизнь ждет нас и малыша вдали от Австрии?
— А какая жизнь ждет нас в Австрии? Если сказать точнее, выживет ли Австрия через год?
На следующий день я должен был предстать в морском департаменте австро-венгерского Военного министерства, в своем лучшем мундире с черно-желтой портупеей. Но до этого мне пришлось выполнить другое поручение: посетить квартиру в 16-м округе и выразить соболезнования от товарищей вдове штойерквартирмайстера Алоиса Пацака. Пацак был резервистом 1885 года рождения и работал литейщиком в железнодорожных мастерских Вестбана. Он жил в однокомнатной квартире на Сольфериногассе 27, в одном из тех огромных, мрачных многоквартирных жилых кварталов, построенных в венских пригородах в начале века.
Я часто думаю, что было бы неплохо показать апологетам «старой доброй Вены», большинство из которых, вероятно, не подбирались к ней ближе Лонг-Айленда, один из мрачных бараков для рабочего класса того периода, когда Вена ассоциировалась с туберкулезом, как Рим с католической церковью, а ее трущобы были подобны таким же в Глазго и Неаполе. Конечно, Сольфериногассе прекрасно подошел бы для этой цели: типичный «Durchaus», в котором похожий на туннель проход вел с улицы в один вонючий двор за другим.