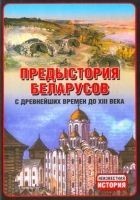Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI - страница 180
Только изучать процессы ассимиляции чрезвычайно трудно, ведь внимание надо сосредоточивать на деталях: на том, как, при каких условиях, когда, в каком направлении протекали ассимиляционные процессы в каждом конкретном случае. Решающее слово здесь за исторической демографией, исторической социологией и подобными им дисциплинами, которые еще только стремятся конституироваться в качества самостоятельных направлений исследований.
Но и здесь уже делаются очень интересные наблюдения. Так, А. Медведев, сравнив свидетельства генетической преемственности населения Беларуси и проникновения иных этнических групп, делает вывод, что поскольку следы переселенцев не сохранились в генофонде, их численность вряд ли превышала 5–10 %. Фактически, это означает, что упомянутые мигранты физически были полностью ассимилированы, но они существенным образом причастны к коренному изменению языкового ландшафта на территории будущей Беларуси. Ассимиляция местных (балтских) племен могла происходить только в условиях славяноязычного города, который доминировал над сельским округом, а это, бесспорно, «приводило и к сохранению во всех сферах материальной и духовной культуры черт предыдущего населения» (33).
Г. Саганович тоже утверждал, что общая для большой части Восточной Европы городская культура охватывала в то время совсем незначительную часть населения — 2–5 %, тогда как абсолютное большинство жителей составлял консервативный деревенский люд, среди которого преобладали автохтоны, а не славяне (34).
Помимо «административного», важным фактором ассимиляции был, бесспорно, еще и религиозный, когда крещение балтов в «русскую» (православную) веру в конце концов приводило их к ментальной и языковой рутенизации. Э. Зайковский утверждает:
...«Приток славян-переселенцев численно был не таким уж большим, поэтому славянизация туземцев происходила в первую очередь благодаря славянским городам, княжеской дружине, а с конца X века — христианской церкви, поскольку христианизация вела и к славянизации» (35).
Еще ранее польский историк Г. Пашкевич показал, что первоначальный смысл понятия «славянский» был связан со славянской церковью — особым обрядом, отличным от римского и греческого, основанным Кириллом и Мефодием в Паннонии и Моравии, на Дунае.
Именно как распространение этого обряда и следует понимать позднейшие летописные сообщения о расселении славян с Дуная — это на самом деле свидетельства распространения оттуда славянской веры. Славянский обряд существовал в Киеве еще до Владимира Крестителя (по крайней мере, княгиня Ольга, жившая до 969 года, уже его исповедовала), еще до принятия греческой веры. В силу существования довольно прочной славянской христианской традиции до укоренения в Киеве новой греческой, был сохранен славянский литургический язык и получился своеобразный симбиоз, ставший характерной чертой русской церкви. Кстати, эти наблюдения корреллируют с новейшими работами об этногенезе славян, напрмер, с мнением Ф. Курты:
...«Создание славян было не столько результатом этногенеза, сколько результатом изобретения, воображения и систематизации византийских авторов» (36).
Неясным, однако, по-прежнему остается происхождение немногочисленных славяноязычных переселенцев. Много ли среди них было собственно славян? Судя по всему, наиболее существенную роль в распространении славянского языка сыграли метаэтнические военно-торговые корпорации «руси», в которых преобладали выходцы из Скандинавии. Появление «руси» тоже соответствует распространению материальной культуры городского типа почти по всему пространству Восточной Европы.
8. Беларуское самосознание сегодня
Еще один важный аспект проблемы происхождения народа — психологический, связанный с осознанием индивидами принадлежности к определенному этническому сообществу, наличия общих предков, отделенности от представителей других этносов. Все это слагаемые феномена самосознания.
Самосознание — один из наиболее существенных признаков этнической и национальной идентичности. Если в этническом сообществе самосознание и идентичность понимается в терминах органического локального соседства, так что «чужим» может быть и житель соседней деревни, то национальное сознание формируется отчасти идеологическим образом и имеет масштабное измерение. Отсюда возникают многочисленные коллизии. Беларусы могут быть примером одной из них, когда этнос продолжает свое существование на исконной территории, но по разным причинам перестает отождествлять себя со своими историческими предшественниками, более того, с первопредками.
Несмотря на автохтонную суть этногенеза беларусов, у нас господствует славянская идентичность, причем не только на обывательском уровне и в «официальной» историографии, но и в головах «национально сознательных» деятелей. Вот одно из весьма характерных высказываний, которое принадлежит Зенону Позняку:
...«Тысячу лет назад, когда балты и славяне (теперешние беларусы) сосуществовали рядом, наши предки создали города и передовую религию (Христианство). Балты ничего этого не имели и не создали. Результат — они полностью растворились в славянском море, не оставив после себя даже воспоминаний, кроме, разве что, гидронимов да названий типа «Дулебы», «Ятвяги» или «Дзяволтва» (37).
Показательно, что беларусов часто непосредственно отождествляют с малочисленным пришлым элементом, которому приписывается «прогрессивная» культуртрегерская миссия среди полудиких аборигенов, хотя согласно справедливости должно было быть прямо наоборот. «Неудобные» балтские предки беларусов превращаются в репрессированное «молчаливое большинство», представление о котором не очень отличается от образа «темного» беларуса в этнографии времен Российской империи.