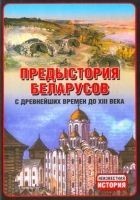Предыстория беларусов с древнейших времен до XIІI - страница 28
Согласно с «Повестью…», славянами Киевской Руси были словены Новгорода, поляне Киева, север (Черниговщина), древляне (северо-западнее Киева), дреговичи (между Припятью и Двиной), полочане (Полоцк). И нет ни слова о том, что все они — потомки одного племени.
Откуда конкретно пришло каждое? Об этом летопись молчит. Понятно, что не все с Дуная, так как об этом летописец сказал бы. А мы что знаем?
В оригинале «Повести…» поляки названы полянами (3). Точно так же называлось племя, жившее вокруг Киева. Кто-нибудь скажет: ну и что? Там поля — и здесь поля, так почему бы названию тех и других не происходить от слова «поле»? А вот посмотрите, что пишет автор «Повести…»: «Бяше около града /Киева — Авт. / лес и бор велик» (4). Видите, не «поле», а лес и бор велик! И главным занятием полян Киева было вовсе не земледелие: «бяху ловоше зверь, бяху мужи мудри и смислени, нарицахуся поляне» (там же). Так нельзя ли допустить, что поляне Киева — часть полян Вислы? Думаю — можно.
С полянами Киева граничили северяне. Но это название дали уже исследователи, потому что в летописи сказано — СЕВЕР (5). Не говорит ли такое название о том, что это племя первоначально было самым северным из всех славянских? Вполне вероятно, что говорит. А где был славянский север? На побережье Балтийского моря.
В Новгороде жили словены. Такое же имя носят сегодня граждане Словении. Но были еще и западные СЛАВИНЫ, родственные кашубам. И вот что интересно: язык новгородских берестяных грамот X–XII веков имел общие черты с западнославянскими диалектами (6). Так что и новгородцы могли прийти откуда-нибудь из Польши. Или из Полабья.
По мнению Н. И. Ермоловича, наши предки кривичи и радимичи, безусловно, пришли с запада (7).
Дреговичей Николай Иванович зачислил в те племена, которые пришли с юга.
Между тем были еще и полабские дреговичи (8).
Таким образом, большинство славянских племен пришло на восток с запада, остальные — с юга.
Понятно, что их говоры не могли быть одинаковыми. Хотя филологи об этом не говорят, но сознают. Отсюда и тезис о «формировании» из этих говоров общего восточнославянского языка: не было, так сформировался!
Но как же он мог сформироваться в VII–VIII веках, пусть даже было бы государство (которого на самом деле не было)? Что представляло собой государство в те времена? Сидел в Киеве великий князь и собирал дань. Вот практически и все государство. Хозяйство — натуральное: что люди добывали или выращивали, то и ели. Мобилизация в киевскую дружину не проводилась, набиралась она из княжеского окружения. Таким образом, население не перемешивалось, его движение в границах государства было минимальным. Письменности не было, образование отсутствовало. Как же мог в таких условиях из разных говоров выработаться один общий язык?
Нам хорошо известно, что даже Российская империя, с ее полицейско-административным аппаратом, повсеместной начальной школой, газетами и другими средствами распространения языка, не смогла превратить в русских все подчиненные народы. Так что создание государства само по себе еще не ведет к языковой консолидации страны.
Правда, в Киевском государстве был язык, на котором писали документы и сочинения и в Киеве, и в Полоцке, и в Москве. И никаких других языков от того времени не осталось. Но потому ли, что он вообще был один? Может быть потому, что другие не фиксировались в письме?
Кстати, филологи утверждают, что в Киевской Руси были два письменных языка. Один — это тот, что пришел сюда вместе с христианством, язык Священного Писания. Другой — якобы был уже здесь с VII–VIII веков. Первый называют церковнославянским, второй — древнерусским.
Чем же они различаются между собой? На этот вопрос отвечает Н. Самсонов, автор учебника «Древнерусский язык». Интересная вещь — оказывается, только фонетикой! Причем и фонетических отличий — кот наплакал: в церковнославянском — глава, млеко, брег, шлем, елень, езеро, югь, южинъ; в «древнерусском» — голова, молоко, берег, шелом, олень, озеро, оугъ, оужинъ. Да еще несколько самостоятельных слов — в «древнерусском» правъда (в церковнославянском — истина), видокъ (съведетель), сватьба (брак). И всё! Морфологических отличий — никаких, приставки и суффиксы «древнерусского» — церковнославянские (9). И это два разных языка? Здесь даже о диалектах нельзя говорить!
Тем не менее, ученые «знатоки» делят киевскую литературу: вот это произведение написано на церковнославянском, а эти («Русская правда», «Поучение Владимира Мономаха», «Слово о походе Игоревом», «Моление Даниила-заточника») — на древнерусском… Несмотря на то что и «древнерусский» щедро пересыпан «всеми особенностями» церковнославянского.
Вот маленький, но красноречивый пример. В начале «Слова о походе Игоревом» имеется такой оборот: «О бояне, соловию старого времени! А бы ты сиа плъкы ушекотал, скача, славию, по мыслену древу». Как видите, в одном предложении — церковнославянское славию и «древнерусское» соловию, что означает одно и то же— соловей.
Для сравнения отмечу, что беларуский филолог Ф. М. Янковский выявил между беларуским и русским языками 27 фонетических различий, 43 морфологических и более двух десятков синтаксических (10). Не говоря уже о лексических, которых огромное множество. И то находятся русские филологи, которые относят беларуский язык к «наречию» русского (один такой умник преподавал в Литературном институте, когда я там учился). А здесь — всего-навсего 8 фонетических отличий, несколько других слов, и уже провозглашается наличие самостоятельного «древнерусского» языка».