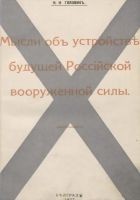Мысли объ устройствѣ будущей Россiйской вооруженно - страница 73
Стиль приведенной выдержки такъ же, какъ и всѣхъ предыдущихъ показываетъ, что онѣ представляютъ собой запись, сдѣланую подъ непосредственнымъ впечатлѣнiемъ пережитыхъ событiй. Тѣмъ большую цѣнность представляютъ онѣ для насъ. Онѣ позволяютъ разсѣять тотъ мифъ, который старательно создавали большевики вокругъ дѣйствiй своей конницы, въ особенности вокругъ имени Буденнаго. Никакихъ образцовъ "будущей" кавалерiи Буденный не далъ, а возродилъ только очень старый типъ иррегулярной конницы. Съ этимъ типомъ конницы мы встрѣчались въ нашихъ войнахъ съ турками и другими восточными народами. Во всѣхъ областяхъ жизни появленiе у власти большевиковъ есть синонимъ возвращенiя къ варварству. Такой же слѣдъ они оставили и въ военномъ дѣлѣ. Надъ типомъ иррегулярной конницы военная исторiя уже произнесла свой приговоръ и учиться у большевистскихъ вождей будущей Россiйской армiи не придется.
Тѣмъ не менѣе, война большевиковъ съ поляками позволяетъ сдѣлать интересные выводы.
Въ самомъ дѣлѣ, плохая конница обѣихъ сторонъ съ начальниками, во много разъ худшими, чѣмъ кавалерiйскiе начальники большой войны, достигаетъ болѣе рѣшительныхъ результатовъ, нежели хорошая кавалерiя 1914 — 18 гг. Большевики очень любятъ писать о "дерзанiи" своихъ вождей. Безпристрастныя свидѣтельства, приведенныя нами выше, показываютъ обратное. Никакого "дерзанiя" у Буденнаго не было. Вездѣ, где встрѣчалось малѣйшее сопротивленiе, онъ сдавалъ. Его конница не смѣла нападать даже на поѣзда, несмотря на то, что находилась въ обнаженномъ тылу, объятомъ паникой. Не великое требовалось "дерзанiе" и со стороны польской конницы, если, какъ мы видѣли, 3.000 всадниковъ въ рядѣ боевъ могутъ взять 8.500 плѣнныхъ съ десятками пушекъ, потерявъ менѣе 20 человѣкъ убитыми.
Рѣшенiе интересующаго насъ вопроса слѣдовательно лежитъ въ условiяхъ борьбы. Въ большую войну, встрѣчая сопротивленiе регулярныхъ армiй, кавалерiя часто уподоблялась ножу, пытающемуся перерѣзать желѣзо; въ польскую же войну она можетъ быть уподоблена ножу, рѣжущему мокрую глину. Для того, чтобы перерѣзать послѣднюю, не нужно ни особой закалки, да и ножъ можетъ быть плохенькiй, съ зазубринами.
Неустойчивость войскъ приводила и къ другому важному слѣдствiю. Чтобы заставить эти войска отступить или даже панически бѣжать, достаточно было одной угрозы маневромъ. Въ военной исторiи мы знаемъ цѣлыя эпохи, когда всѣ военныя дѣйствiя, вслѣдствiе плохого качества армiй, сводились къ однимъ угрозамъ обхода, послѣ чего обойденная сторона уже считала себя побѣжденной.
Конница перестала быть оружiемъ массоваго шока, а стала оружiемъ маневра.
И вотъ, въ польскую войну 1920 года, плохiя конницы, съ кустарями-начальниками, не проливая почти своей крови, одерживаютъ рѣшительныя побѣды. Легкая возможность проникновенiя въ тылъ врага позволяетъ имъ осуществлять тотъ основной принципъ, который выдвинули войны XIX и XX вѣковъ: конница перестала быть оружiемъ массового шока, а стала оружiемъ маневра.
Тѣмъ не менѣе, она должна обладать и "пробивной" силой.
Несомнѣнно, что никто не возьмется утрвеждать, что въ будущей большой войнѣ въ Европѣ, можно расчитывать на столь же малую устойчивость войскъ, какъ та, которая была проявлена воюющими сторонами въ войну 1920 года.
Стало быть конница должна быть способна не только къ маневрированiю, но и къ веденiю боя. Послѣднiй потребуется какъ для прорыва непрiятельской завѣсы, такъ и для сбитiя частей противника, пытающихся прикрыть свой флангъ и тылъ. Каждый маневръ завершится для конницы упорнымъ боемъ. Такимъ образомъ, выдвинутое нами положенiе, что въ современную эпоху кавалерiя перестала быть орудiемъ массоваго шока, а стало орудiемъ маневра, вовсе не означаетъ, что современная конница можетъ не обладать "пробивной" силой. Послѣдняя должна быть присуща конницѣ и опытъ большой войны показываетъ, что кризисъ, переживавшiйся на европейскомъ театрѣ кавалерiей всѣхъ воюющихъ сторонъ и заключался въ томъ, что "пробивная" сила конницы была или слишкомъ слаба или неумѣло осуществлялась ея начальниками. Какъ часто намъ приходилось быть свидѣтелями, когда бригады и даже дивизiи кавалерiи въ сомкнутыхъ строяхъ таскались начальниками за собой въ ожиданiи примѣненiя ударной силы конницы въ видѣ массоваго сомкнутаго коннаго шока. Несомнѣнно, что это устарѣлое пониманiе и явилось главной причиной того, что генералъ Ханъ Нахичеванскiй, имѣя въ своемъ распоряженiи четыре отличныхъ кавалерiйскихъ дивизiи, не только не содѣйствуетъ правому флангу армiи ген. Ренненкампфа въ бою у Сталупенена, но и обнажаетъ этотъ флангъ въ сраженiи подъ Гумбиненомъ. Подобныя идеи съ полной силой еще царствовали не только у насъ. Англiйскiй фельдмаршалъ Френчъ, въ первомъ сраженiи 1914 года, держитъ цѣлый кавалерiйскiй корпусъ у своей ставки, ожидая, повидимому, возможности массовымъ шокомъ прорвать обходящихъ нѣмцевъ. Вмѣстѣ съ этимъ, когда конница встрѣчалась съ непрiятельской завѣсой, она ждала пѣхоту для прорыва ея, а сама бездѣйствовала въ ожиданiи массовыхъ конныхъ атакъ. Разительный примѣпъ подобнаго явленiя мы можемъ увидѣть на поляхъ сраженiя у Марны. Во время этого сраженiя между нѣмецкой правофланговой армiей (фонъ Клука) и ея ближайшимъ сосѣдомъ слѣва (армiя фонъ Бюлова) съ 6-го по 13 сентября образуется широкiй разрывъ. Въ теченiе трехъ сутокъ (съ 8-го по 10-е сентября) эта дыра достигаетъ по фронту 50 верстъ. Резервовъ германское командованiе не имѣетъ; оно можетъ лишь замаскировать этотъ разрывъ слабой кавалерiйской завѣсой. Противъ этого разрыва находились три французскихъ и одна англiйская кавалерiйская дивизiи. Судьба посылала имъ рѣдко счастливый случай. Если бы имъ удалось проникнуть въ этотъ разрывъ, положенiе фонъ Клука оказалось бы катострофическимъ. Но союзническая конница этого не сдѣлала. Она видѣла въ огнѣ противника препятствiе, но не видѣла въ своемъ огнѣ могучаго союзника.