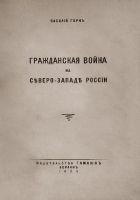Гражданская война на сѣверо-западѣ Россіи - страница 27
У себя, въ чисто военной области, ген. Родзянко обзавелся дежурнымъ генераломъ, инспекторомъ артиллеріи и прочими громкими, но бутафорскими по размѣрамъ арміи, должностями, на каковыя должности, за рѣдкими исключеніями, были назначены персоны не ниже полковничьяго чина. Про свои познанія и таланты въ области насажденія гражданскаго порядка ген. Родзянко самъ высказывался весьма пессимистически, что не мѣшало ему, однако, залѣзать въ эту область, когда вздумается и развязно критиковать «общественниковъ», когда они ему подвернутся на языкъ или подъ руку. Политическая физіономія огромнаго большинства его сотрудниковъ оказалась опредѣленно чернаго колера, а дѣйствительная, но тщательно скрываемая, оріентація — на прусскую реакцію.
Въ одномъ мѣстѣ своей книги (стр. 60) ген. Родзянко жалуется, что начальнику тыла, ген. Крузенштіерну, приходилось работать въ очень тяжелыхъ условіяхъ, «потому что чрезвычайно трудно было найти помощниковъ и исполнителей: офицеры были нужны на фронтѣ, а штатскіе люди предпочитали оставаться въ Ревелѣ и жить спокойно или заниматься общественностью, а это послѣднее занятіе гораздо больше вредило, чѣмъ помогало арміи». Упреки направлены по адресу непріятнаго для ген. Родзянки Ревельскаго Русскаго Совѣта и крайне несправедливы по существу. Дѣятельности гражданскаго элемента въ тылу не хотѣлъ самъ Родзянко и его ближайшіе помощники. Напримѣръ, когда рѣчь шла о назначеніи на должности волостныхъ комендантовъ гражданскихъ лицъ, онъ возражалъ противъ штатскихъ, потому что фронтъ былъ близокъ (стр. 65), а когда услуги помощи предлагались въ центрѣ, по упорядоченію хотя бы продовольственной части, начальникъ этого отдѣла отвѣчалъ посланному представителю общественности: «въ совѣтахъ вашихъ не нуждаемся, если вамъ что нужно, обратитесь къ моему помощнику».
Русскій Совѣтъ къ тому времени, очевидно, понялъ всѣ послѣдствія своей 1 овечьей политики по отношенію къ командованію и бросился за содѣйствіемъ і къ сидѣвшему въ Гельсингфорсѣ ген. Юденичу. Формальнымъ основаніемъ къ этому было то, что незадолго передъ тѣмъ генералъ Колчакъ назначилъ ген. Юденича главнокомандующимъ сѣверо-западнаго фронта и, слѣдовательно, Родзянко оказывался подчиненнымъ ген. Юденича. Была составлена соотвѣтствующая записка о Родзянко и Сѣверномъ Корпусѣ. Членъ совѣта М. М. Филиппео повезъ ее въ Гельсингфорсъ къ ген. Юденичу, прося его пріѣхать образовать немедленно гражданское совѣщаніе.
Юденичъ сказалъ, что онъ не можетъ пріѣхать, такъ какъ не знаетъ, какъ отнесутся къ нему эстонцы. Филиппео отвѣтилъ ему на это, что все зависитъ отъ того политическаго курса, котораго станетъ держаться генералъ въ Ревелѣ и посовѣтовалъ ему также не медлить съ поѣздкой на фронтъ, иначе его популярность въ арміи разсѣется, какъ дымъ.
По политическимъ вопросамъ ген. Юденичъ направилъ Филиппео къ А. В. Карташеву, которому Филиппео подалъ вышеупомянутую записку, а копію ея далъ I. В. Гессену для пересылки заграницу. Карташевъ жаловался Филиппео на борьбу съ черносотенными тенденціями Трепова, Волконскаго, которую ему пришлось вынести вмѣстѣ со Струве, но никакого конкретнаго совѣта не далъ.
Черезъ два дня (24 мая 1919 г.), послѣ визита Филиппео, сформировалось, однако, Политическое Совѣщаніе при ген. Юденичѣ. На русскіе круги по обѣ стороны залива составъ его произвелъ Крайне гнетущее впечатлѣніе; особенно совсѣмъ почернѣвшій проф. Кузьминъ-Караваевъ.
Совѣщаніе возникло единоличной властью ген. Юденича безъ всякаго участія общественности. Попали только тѣ, кого хотѣлъ ген. Юденичъ. Сюда вошли: генералы Суворовъ (внутр. дѣла) и Кондзеровскій (упр. дѣлами), В. Д. Кузьминъ-Караваевъ (продовольствіе), С. Г. Ліанозовъ (финансы) и А. В. Карташевъ (пропаганда). Неугодными въ числѣ прочихъ оказались нынѣ покойный Е. И. Кедринъ за то, что масонъ, и I. В. Гессенъ, какъ вообще непріемлемый для людей «истинно-русскихъ» устремленій. У народившагося Политическаго Совѣщанія быстро появилась мѣстная гельсингфорская оппозиція, завязалась мѣстная кружковая борьба и вмѣсто живого нужнаго дѣла, оно скоро стало гнѣздомъ реакціонныхъ замысловъ для однихъ и пустой говорильней для другихъ.
Убѣдившись на мѣстѣ, что окружавшіе ген. Юденича люди не могутъ оказать никакого оздоровляющаго тылъ арміи вліянія, М. М. Филиппео, по возвращеніи въ Ревель, сдѣлалъ въ этому духѣ докладъ Совѣту. Тогда послѣдній обратился съ новой запиской уже къ начальнику тыла арміи, ген. Крузенштіерну, въ которой онъ рѣшительнымъ образомъ протестовалъ противъ начавшихся административныхъ безобразій въ занятой полосѣ. Отвѣта никакого не послѣдовало. Послѣ этого Ревельскій Русскій Совѣтъ окончательно повисъ въ воздухѣ.
Почти съ первыхъ же дней вся занятая бѣлыми территорія распалась на два, если можно такъ выразиться, воеводства. Югомъ — Псковской губ. — завладѣлъ атаманъ Булакъ-Балаховичъ, на сѣверѣ — въ Гдовскомъ и Ямбургскомъ уѣздахъ — царила власть ген. Родзянко. Короткое время, около двухъ недѣль, до отъѣзда своего во Псковъ, когда его взяли эстонцы, въ Гдовѣ хозяйничали Балаховичъ и Ивановъ.
Въ этотъ періодъ Булакъ-Балаховичъ положилъ начало своимъ знаменитымъ развѣшйваніямъ обывателей по фонарямъ, а Ивановъ попробовалъ сорганизовать «общественный гражданскій совѣтъ г. Гдова и его уѣзда» — конечно, на тѣхъ же началахъ фиктивнаго участія подлинной общественности, какъ это описано мною во второй главѣ по отношенію къ Пскову.
20-го мая этотъ Совѣтъ (скоро переименованный въ Гражданское Общественное Управленіе) издалъ постановленіе, помѣщенное мною въ приложеніи, послужившее отчасти образцомъ и для Псковской губерніи. Изъ постановленія вовсе не было видно, почему Совѣтъ употребляетъ всуе имя общественности, но за то подъ постановленіемъ, грозившимъ за его неисполненіе всѣми карами «вплоть до самыхъ рѣшительныхъ» въ обстановкѣ военнаго времени, гордо красовалась подпись предсѣдателя Н. Иванова. Все постановленіе представляло смѣсь либеральныхъ потугъ съ довольно откровеннымъ усмотрѣніемъ. Устраняя всякую общественную иниціативу и самодѣятельность въ дѣлѣ устройства гражданской обывательской жизни, Совѣтъ предписывалъ по всѣмъ вопросамъ «какъ въ городѣ, такъ и въ деревняхъ» обращаться исключительно къ нему (п. 1). Взамѣнъ сего гражданамъ милостиво разрѣшалось входить въ Совѣтъ «съ полезными для того или другого общественнаго дѣла краткими письменными указаніями» (п. 9). «Первымъ долгомъ» деревенскихъ старостъ было «арестовать всѣхъ. коммунистовъ и доставить военной власти» (п. 15). Авторы постановленія, видимо, не дали себѣ труда подумать, къ чему могла привести и привела на дѣлѣ эта послѣдняя «обязанность», вылившаяся въ повальное сведеніе мелкихъ затянувшихся за революцію счетовъ и наполнившая потомъ невинными жертвами всѣ тюрьмы и участки края. Но среди этихъ вольныхъ и невольныхъ ляпсусовъ и ошибокъ въ постановленіи Совѣта одно несомнѣнно было дѣльное и нужное въ обстановкѣ того времени. Совершенно опредѣленно и недвусмысленно Совѣтъ поставилъ непріятную для гг. помѣщиковъ точку надъ «і» въ аграрномъ вопросѣ: «воспрещается отбирать у крестьянъ занимаемыя ими помѣщичьи земли, инвентарь и скотъ» (п. 6). Не предрѣшая какого-нибудь окончательнаго разрѣшенія земельнаго вопроса, этотъ параграфъ вносилъ успокоеніе въ крестьянскую среду, утишалъ ея затаенные за земельные захваты страхи передъ пришедшими вновь «господами» и обѣщалъ въ будущемъ придать устойчивость всей бѣлой борьбѣ.