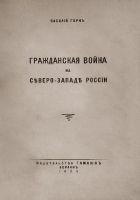Гражданская война на сѣверо-западѣ Россіи - страница 37
Въ селѣ Старопольѣ открыта корпусная лавка, въ которой товары отпускаются исключительно на царскія и думскія деньги, при чемъ послѣднія принимаются только «по курсу», т. е. по 150 за 250 р. Этимъ грубѣйшимъ образомъ самими же бѣлыми нарушаются приказы о курсѣ нашихъ денегъ. Тамъ же существуетъ потребительская лавка, которая обязана принимать думскія деньги по 250 р., что она и дѣлаетъ. Теперь только опа перестала отпускать товары за керенки, такъ какъ иначе ей не на что будетъ ихъ пріобрѣтать…
Все вышеизложенное встрѣчается, какъ повсемѣстное явленіе. Отсутствіе до сихъ поръ упорядоченія нашихъ денежныхъ отношеній за рубежомъ области тяжело отражается на матеріальномъ и экономическомъ положеніи края и служатъ однимъ изъ факторовъ, благодаря которымъ бѣлыя организаціи не пользуются должнымъ довѣріемъ и любовью.
Капитанъ 2-го ранга (подпись). Адъютантъ прапорщикъ (подпись)».
Тяжелое финансовое и экономическое положеніе, въ которое, при создавшихся условіяхъ всеобщей россійской разрухи, попадала на первыхъ порахъ всякая бѣлая власть, усугублялось въ данномъ случаѣ (или вѣрнѣе во всѣхъ «бѣлыхъ» случаяхъ) повседневнымъ произволомъ, чинимымъ надъ населеніемъ многочисленными агентами власти. Взять хотя бы подводную повинность. Одна изъ самыхъ тяжкихъ и разорительныхъ для крестьянъ, она въ первое время исполнялась населеніемъ довольно охотно. Мужики вначалѣ всемѣрно сочувствовали дѣйствіямъ и передвиженіямъ бѣлой арміи. Но съ теченіемъ времени «право подводной повинности», которымъ слѣдовало пользоваться очень осторожно и разумно, перешло всякія границы исполнимаго, а главное, морально допустимаго.
«… Настроеніе крестьянъ прифронтовой полосы, рапортовалъ одинъ офицеръ своему начальству въ августѣ 1919 г., на много благонадежнѣе и сочувственнѣе къ бѣлому правительству, чѣмъ крестьянъ въ глубинѣ уѣзда, благожелательность которыхъ къ бѣлымъ оставляетъ желать многаго, да, кстати сказать, вполнѣ обоснованно, такъ какъ самоуправство нашихъ частей и лицъ, слѣдующихъ по разнымъ казеннымъ надобностямъ, непомѣрно велико: случаи кражъ, неплатежа за продукты, отобранія безъ всякихъ росписокъ хорошей лошади и оставленія худой казенной, принужденія подводчиковъ ѣхать двѣ или три, а въ другихъ случаяхъ и болѣе подводныхъ станцій (въ виду нежеланія обождать вызова дежурной подводы) вселяютъ обоснованное возмущеніе».
И все это только «цвѣтики» въ сравненіи съ тѣми «ягодками», которыми еще дарили разные гг. военные чиновники. Подъ видомъ казенной повинности эти господа сплошь и рядомъ гоняли лошадей по частнымъ дѣламъ, при 74 чемъ даже не особенно-старались скрывать это отъ подводчика, пользуясь дискреціонною властью «вязать и рѣшать».
Мужики очень страдали отъ подводной повинности, но еще больше отъ злоупотребленія ею. Большевистское хозяйничанье въ деревнѣ сильно посократило наличный конскій инвентарь и всякая явно расточительная эксплоатація его вызывала у крестьянъ злобу. Лошадь и работникъ отрывались отъ работы въ полѣ, въ лѣсу, въ домашнемъ хозяйствѣ, часто въ самое нужное, горячее время. А когда мужикъ огрызался (если находился такой смѣльчакъ), на него, кромѣ конкретныхъ скорпіоновъ, въ видѣ кутузки, сыпались упреки, что его симпатіи къ бѣлому дѣлу «основываются главнымъ образомъ на интересахъ брюха».
Требовали отъ мужика того, чѣмъ сами не могли похвалиться на протяженіи всей бѣлой эпопеи.
Глава V.
Политическое Совѣщаніе при генералѣ Юденичѣ. Характеристики главныхъ членовъ Совѣщанія. Ихъ дѣятельности Переѣздъ главнокомандующаго ген. Юденича в Нарву. Отношеніе къ нему офицерства. Разногласія ген. Юденича съ Политическимъ Совѣщаніемъ на почвѣ политической деклараціи. Катастрофическое положеніе Фронта и тыла. Эстонцы и Политическое Совѣщаніе. Паденіе города Ямбурга и борьба генераловъ между собою. Признаніе Эстоніи независимой, какъ основное требованіе дальнѣйшей поддержки эстонцами русской бѣлой арміи. Настроеніе эстонской арміи. Тренія между ген. Юденичемъ и эстонцами. Наростаніе общественныхъ требованій къ Политическому Совѣщанію.
Печальное политическое и экономическое положеніе «оккупированной» мѣстности заставляло въ свое время много говорить о власти, покрывавшей своимъ флагомъ весь фасадъ этого непригляднаго зданія. Винили главнымъ образомъ Балаховича, Родзянко, Хомутова, Бибикова, вообще ту группу офицерства, которая стояла на верхахъ, и вовсе не подозрѣвали о существованіи какого-то Политическаго Совѣщанія при ген. Юденичѣ. Про послѣдняго только говорили, что онъ эрзерумскій герой и что ему почему-то мѣшаетъ въ его стремленіи упорядочить тылъ бюрократическое средостѣніе, образовавшееся вокругъ ген. Родзянко. Въ толпѣ обывателей относительно личности ген. Юденича преобладало вначалѣ скорѣе хорошее, чѣмъ плохое мнѣніе: на генерала возлагались большія надежды. Мѣстные Добчинскіе и Бобчинскіе, напримѣръ, совершенно довѣрительно говорили всѣмъ и каждому, что самъ-то онъ, молъ, давно желаетъ покончить со всѣми безобразіями тыла и даже назначилъ съ этой цѣлью особаго главноуправляющаго гражданской частью, нѣкоего г. Александрова, человѣка образованнаго, юриста по профессіи, и что вотъ, когда этотъ Александровъ пріѣдетъ и вступитъ въ свою должность, повсемѣстно будетъ произведена генеральная чистка.
Но Александрова не дождался ни Псковъ, ни Ямбургъ, а съ Юденичемъ широкая публика познакомилась позже, когда онъ сталъ дѣйствовать уже въ качествѣ члена сѣв.-зап. правительства.