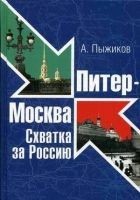Питер - Москва. Схватка за Россию - страница 100
...«Какие бы ни были дефекты предполагаемого проекта, в нем есть одна положительная сторона, которая может искупить многое: создается в деревне собственность и не разрушается община».
Этот баланс интересов дал бы возможность бороться с самыми темными сторонами общины, но не с самой общиной как таковой. В столыпинском же законе от 9 ноября 1906 года, констатировал Четвериков, напрочь отсутствовало специфическое народное понимание правды, так как его составители все надежды возлагали на экономическую составляющую:
...«Слишком много считались с хозяином и слишком мало – с человеком».
Здесь не место комментировать данные рассуждения, заметим только, что весной 1917 года схемы Четверикова невозможно было реализовать, поскольку страну захлестнула настоящая общинная революция снизу с разделом земли по уравнительному принципу. Этому глубинному народному порыву наиболее полно отвечали отнюдь не купеческие, а эсеровские программные установки. Партийный предводитель социалистов-революционеров В.М. Чернов предельно четко формулировал цель:
...«Между землей и трудом стоят рогатки монополии собственников; эти рогатки должны быть сняты, и Временное правительство может и должно их снять».
Подобные заявления были созвучны народным чаяниям, что продемонстрировал Всероссийский крестьянский съезд, состоявшийся в мае 1917 года. Его участники не хотели слышать ни о чем другом, кроме социализации земли и трудового уравнительного землепользования. Принцип частного землевладения совсем не находил сторонников; значительное большинство выступало против выкупа земли у собственников и не поддерживало их вознаграждение за государственный счет (в смысле компенсации за землю). Когда дело так или иначе касалось этих насущных вопросов, крестьянские делегаты «совершенно теряли выдержку, обнаруживая типичный для того времени максимализм требований». Эсеровские лидеры, предавая на съезде анафеме частную собственность и воспевая общинные порядки, ратовали за запрет залога земель под банковские ссуды, что, по их убеждению, должно было обеспечить прилив кредита непосредственно на сельскохозяйственную модернизацию. Ходом съезда дирижировал Чернов (кстати, он присутствовал на нем не в качестве нового министра земледелия, а как крестьянский делегат от Камышинского уезда Саратовской губернии, считая это звание более почетным).
Надо отдать должное эсеровской партии: она довольно быстро сумела взять под контроль Главный земельный комитет, превратив его в штаб аграрных преобразований. Идея образования комитета принадлежала кадету А.И. Шингареву, начинавшему свою деятельность в правительстве как раз министром земледелия: он планировал создать центр для подготовки теоретических основ реформы. В Главный земельный комитет предлагалось ввести представителей всех партий, а также частных землевладельцев; никакими исполнительными функциями система комитетов на местах не обладала. Однако, войдя в состав Временного правительства, Чернов и Пешехонов наделили земельные комитеты правом разрешения споров и недоразумений в сфере земельных отношений, что придало их деятельности принципиально иной характер. При Шингареве предполагалось, что Главным земельным комитетом будет руководить постоянно действующий орган из двенадцати человек. Но со вступлением в должность министра Чернова в состав комитета было кооптировано сорок человек из эсеровской среды. В результате этот орган стал напоминать обычный митинг. Эсеровская вольница выдвинула целый ряд законопроектов, которые шокировали членов Временного правительства. Чего стоил только обещанный на крестьянском съезде запрет купли-продажи земель (его мотивировали необходимостью приостановить перераспределение земельного фонда). А после правительственного кризиса и отставки премьера князя Г.Е. Львова эсеры смогли приступить к реализации своих обещаний. Сделки с внегородской землей согласно внесенному ими законопроекту могли производиться лишь с разрешения местных земельных комитетов и при утверждении каждого случая министром земледелия. При этих условиях ни о каком праве собственности на землю говорить уже не приходилось. Кроме того, данный законодательный акт вел к огромным потрясениям всей хозяйственной жизни, ведь под определение «внегородские» подпадали земли, приобретаемые или арендуемые коммерческими предприятиями для разработки угля, нефти, сахара и проч. Питерские банки требовали прекратить подобные эксперименты, грозящие им как крупным владельцам соответствующих бизнесов огромными потерями. Не менее вызывающим был признан законопроект «Об охране лесов и их рубке». Заготовлять древесину по этому закону полагалось только с разрешения уездных земельных комитетов, которые должны были определять, не преследует ли рубка спекулятивных или хищнических целей. Тем самым, по меткому замечанию «Русских ведомостей», под подозрение брался каждый удар топора, даже если он диктовался необходимостью обороны или потребностями общественных организаций.
Эсеровские лидеры неуклонно придерживались взятого курса и открыто выражали недоверие тем членам Временного правительства, кто отрицательно относился к их партийным наработкам. Например, назначенный министром внутренних дел эсер Н.Д. Авксентьев объяснял товарищам князя Г.Е. Львова по министерству внутренних дел (Щепкину, Леонтьеву, князю Урусову), что вынужден освободить их от занимаемых должностей из-за их принадлежности к землевладельческой буржуазии, к которой подозрительно относятся широкие демократические круги. Разумеется, свою политику эсеры считали единственно правильной. Как уверенно декларировал их партийный рупор «Дело народа»: