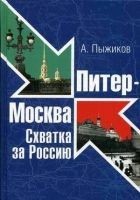Питер - Москва. Схватка за Россию - страница 103
Русские министры трепетно относились к недовольству администраций металлургических и угледобывающих предприятий региона, оперативно реагируя на их требования. Это демонстрирует следующий пример. До революции южные горнопромышленники торговались с царским правительством о повышении цен на уголь на 3-5 коп. за пуд. При новой власти они сразу запросили – и получили – 11-копеечную прибавку; в результате цены увеличились с 18 до 29 коп. за пуд, причем надбавка распространялась и на старые поставки с января 1917 года. «Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов» писали по этому поводу, что Министерство торговли и промышленности подчиняется интересам южной индустрии, по сути попав к ней в плен. Или еще один характерный случай с Путиловским заводом. После наложения на завод секвестра в феврале 1916 года были расторгнуты четыре договора с французской фирмой «Шнейдер-Кредо». Это вызвало резкий протест французской стороны, заявившей о большой значимости данных договоров для местной металлургии и банков. Царское правительство пошло на возобновление контрактов, но не в полном объеме. А новая демократическая власть восстановила действие всех договоров, хотя они находились в явном противоречии с потребностями секвестированного завода. Выше уже упоминалось о просьбе английских акционеров ряда предприятий взять их активы под особый государственный контроль (просьбу передал министр труда Великобритании А. Гендерсон). Английские собственники ходатайствовали, чтобы русские власти приняли на себя решение вопросов о заработной плате, о защите имущественных прав и т. д. Временное правительство высказалось за удовлетворение их просьб, обеспечив этим конкретным предприятиям более или менее сносное существование. Таким образом, создавалась как бы привилегированная промышленность иностранного происхождения.
Все это показывает, что победу купечества и его либеральных союзников нельзя назвать полной или хотя бы достаточной для реализации нужных им экономических сценариев. Политическая неопределенность и тесная зависимость от союзников из Антанты не позволяли Временному правительству допустить доминирование купеческой буржуазии в экономике страны. Это прекрасно осознавала петроградская финансовая группа: оправившись от февральско-мартовского шока, она продолжила экспансию в различные отрасли российской экономики, следуя путями, определившимися еще при царском режиме. Забегая вперед, скажем, что в течение 1917 года ей удалось серьезно продвинуть свои интересы, и лишь Октябрьская революция прервала уверенную поступь питерских капиталистов. Именно при Временном правительстве завершается начатая в годы предвоенного подъема экспансия столичных банков в индустрию Урала. Все наиболее крупные уральские промышленные округа окончательно переходят под контроль этих финансовых структур. Так, Нижнетагильский округ был фактически куплен Русским для внешней торговли банком, а перспективные платиновые прииски перешли к французской компании. Богатейший Верхне-Исетский округ при крупной задолженности Государственному банку оказался в руках Азовско-Донского банка. Та же участь постигла Невьяновский округ, попавший в полную финансовую зависимость от Сибирского торгового банка. Русско-Азиатский банк установил контроль над Алапаевским округом. А Сысертский округ управлялся из лондонской штаб-квартиры. Новые собственники предполагали перестроить производство по отраслевому принципу с широкой кооперацией между отдельными хозяйствами, расположенными в других регионах. Например, Петроградский международный банк, скупивший акции Белорецкого общества, планировал использовать заводы в кооперации с концерном «Коломна–Сормово», Азовско-Донской банк обдумывал проект слияния Верхне-Исетского и Сысертского округов, с выкупом последнего у англичан.
Но самое интересное, что за 1917 год петроградские банки серьезно укрепились в горной индустрии юга России. Развернувшиеся там рабочие беспорядки вызывали у зарубежных собственников обоснованные опасения по поводу судьбы их активов. Адресованные к властям требования нормализовать ситуацию мало к чему приводили. Тогда европейские акционеры стали воздерживаться от финансовых вложений, выжидая, чем закончится воцарившаяся в южном регионе анархия. Вот этой ситуацией и решили воспользоваться петроградские банки. Они активно начали предоставлять ссуды предприятиям, оказавшимся в сложном положении из-за недостатка оборотных средств. Причем финансирование организовывалось посредством выпуска новых акций, которые приобретались самими банками. В результате влияние питерской элиты в горной промышленности юга стало быстро нарастать. Если до войны предприятия Донецкого бассейна, находившиеся в собственности у иностранцев, давали 3/4 добываемого угля, то в послефевральский период этот показатель стал неуклонно снижаться.
Лидером питерской экономической экспансии выступал Русско-Азиатский банк, располагавший наиболее мощным финансовым потенциалом. В 1917 году денежные вклады банка в тринадцать раз превышали собственный капитал; одних только депозитов было привлечено на 805 млн руб. В годы Первой мировой войны Русско-Азиатский банк подвергся серьезной акционерной перестройке. На первые роли выдвинулись новые собственники в лице фирмы Стахеева – Ватолина, которых привлек к работе непосредственно глава банка Путилов. Эти представители купечества чувствовали себя в своей тарелке при работе на внутрироссийском рынке – в отличие от старых крупных акционеров, лучше знакомых с европейскими реалиями. В Первую мировую войну именно союз с Путиловым постепенно делает стахеевскую фирму серьезным экономическим игроком с интересами в самых различных отраслях экономики. А в 1917 году группа Стахеев – Батолин – Путилов превращается в ударную силу агрессивной банковской экспансии. Партнеры могущественного Путилова становятся крупными акционерами Русско-Азиатского банка. Однако этот процесс протекал весьма болезненно: другие акционеры были не в восторге от новых партнеров. Ближайшие многолетние соратники Путилова француз Верстрат и Н.А. Гордон выступили против операций, которые Батолин проводил через банк (например, под залог различных векселей получал крупные кредиты в десятки миллионов рублей). Дело доходило до ультиматумов: если этим коммерсантам будут с легкостью ссужаться средства, то в банке последуют отставки. Однако Путилов не только не отступил, но и решил распрощаться с давними коллегами, фактически вынудив их продать паи своим новым партнерам. Все эти события, будоражившие финансовый мир России, сопровождались пересудами о хитроумных комбинациях Путилова. Например, упорно циркулировали слухи о том, что контрольный пакет Русско-Азиатского банка продан некой парижской финансовой структуре, специально учрежденной для этого самим Путиловым. Если требуется совершить какую-либо сделку, ее оформляют от имени французских акционеров – на сцене появляется парижский банк, по существу не совершающий никаких других операций. То есть перед нами такая комбинация: парижский банк владеет контрольным пакетом акций Русско-Азиатского банка, а последний держит этот пакет у себя. Смысл всего этого – в страховке на случай неблагоприятного развития событий в России. По мысли Путилова, иностранному собственнику проще будет получить от российского правительства возмещение убытков. Но даже самые предусмотрительные банкиры не могли представить, с чем им придется столкнуться в очень недалеком будущем.