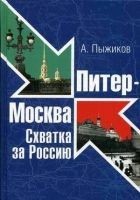Питер - Москва. Схватка за Россию - страница 48
Еще одним серьезным противником, объявившим войну бакинским дельцам, стала купеческая буржуазия центра России и Поволжья. Будучи потребителями нефти, предпринимательские круги данных регионов серьезно страдали от безудержного роста ее стоимости: с 1910 по 1912 год уголь поднялся в цене на 20-30%, тогда как нефть – на 160%. Многие фабриканты постепенно переходили на твердое топливо. Например, в Иваново-Вознесенском районе закупки нефти снизились почти в два раза. Даже Московская городская дума была вынуждена реагировать на вздорожание сырья; она заморозила прокладку нефтепровода и строительство терминала в Кунцеве, решив отапливать город антрацитом. Трудности ощущали и речные судовладельцы: себестоимость водных перевозок увеличивалась до 50%, прибыли падали до минимума. В этих условиях купечество самоотверженно противостояло нефтяным королям. Так, летом 1910 года делегация судовладельцев Волжского бассейна сумела добиться аудиенции у Николая II, на которой излила свою печаль. Представитель нижегородцев Д.В. Сироткин сообщил императору о пренебрежительном отношении к их интересам правительственных чиновников, заметив, что купеческие пароходные общества, приносящие огромную пользу российской экономике, развивались без какой-либо казенной поддержки. Николай II выразил сожаление, что этому важному вопросу уделяется недостаточно внимания. Правительство, со своей стороны, также очень сожалело – правда, больше о том, каким образом купеческие деятели, миновав бюрократические сферы, попали на высочайшую аудиенцию, итогами которой теперь станут спекулировать...
Очагами борьбы с бакинскими нефтяными компаниями были биржевые комитеты, действовавшие в унисон с Государственной думой. Заседавшее там купечество не менее ярко, чем народные избранники, обличало нефтяников, чья ненасытность медленно, но верно разоряет страну. К примеру, Самарский биржевой комитет указывал, что нефтяная промышленность развивается по негласным соглашениям, которые вдохновляются иностранными предпринимателями, усиленно скупающими акции компаний. Доказательств ценового сговора в нефтяной индустрии было немало. Так, крупные фирмы уже заранее объявляли пароходным обществам те цены, по которым будут осуществляться поставки сырья на следующий сезон, причем не заключившие договора предупреждались о значительном ухудшении условий.
Самарский и другие поволжские биржевые комитеты обратились к наиболее авторитетному Московскому биржевому комитету с просьбой взять на себя труд по созыву Всероссийского съезда потребителей топлива. После неудачи с торгами нефтяными участками купечество разных регионов решило выработать новые меры против роста цен. Предлагалось также препятствовать попыткам создания паевого товарищества, исходившим от бакинских воротил. Глава московских биржевиков Г.А. Крестовников в середине декабря 1913 года проинформировал правительство об острой необходимости всесторонне обсудить эту животрепещущую проблему. Он сообщал, что поскольку число желающих высказаться поистине не ограничено, то целесообразнее было бы созвать не многочисленный форум, а особое совещание в составе тех лиц, кто способен компетентно участвовать в дискуссии и вырабатывать предложения. Однако даже такой скорректированный формат мероприятия не получил одобрения властей.
Министр торговли и промышленности С.И. Тимашев без промедлений вынес вердикт по делу о купеческой инициативе. Как он напомнил, подобные дебаты с самым широким привлечением разных категорий потребителей проводились не один раз. Все уже настолько выяснено, что в созыве Московским биржевым комитетом еще одного совещания по тем же вопросам не усматривается никакой необходимости. В результате без правительственного разрешения съезд не состоялся. Тогда надежды купечества обратились к очередному, VIII Всероссийскому съезду представителей биржевых комитетов и сельского хозяйства, намеченному на январь 1914 года. Здесь, в отличие от Совета Съездов представителей торговли и промышленности, где хозяйничала буржуазия юга России, у купечества имелся шанс раскрутить тему дороговизны «черного золота». И действительно, эти проблемы вошли в повестку дня, но нефтяное лобби снова оказалось на высоте, сумев доказать необоснованность обвинений в искусственном сокращении добычи и вздувании цен на нефть. Питерское издание «Финансовое обозрение», тесно связанное с банками, вовлеченными в отраслевые дела, писало, что подобные обвинения есть следствие полного незнакомства с предметом. Объединенный поход биржевых комитетов против несуществующего нефтяного синдиката окончился неудачей. Съезд постановил, что проблемы можно решить только за счет незамедлительного увеличения площади нефтеносных земель, отданных в эксплуатацию.
Важным пунктом противостояния Государственной думы и петербургских чиновничье-банковских кругов стали также военно-морские и торгово-морские вопросы. Громкие конфликты сопровождали их обсуждение с 1908 по 1913-й год. Обратимся к принятию Думой морской программы правительства, предусматривавшей создание нового мощного флота. Как известно, завершение Русско-японской войны 1904-1905 годов нанесло непоправимый урон отечественным военно-морским силам, а Цусимский разгром стал для общества именем нарицательным. Оправившись от этого удара, власти поставили перед собой задачу воссоздания морской мощи государства. По их убеждению, модернизационные вызовы нового столетия требовали наличия современного флота, иначе претензии на статус великой державы выглядели, мягко говоря, несерьезными. Однако эта принципиальная позиция правящей бюрократии не была оценена в Таврическом дворце. Точнее, обширные планы правительства вызвали резкое неприятие в оппозиционной среде. Уже весной 1908 года, когда подошла очередь рассмотрения сметы морского ведомства, многие предрекали трудности при утверждении правительственных предложений. Все началось с весьма красноречивого эпизода 23 мая 1908 года на открытии пленарного заседания Государственной думы, собравшейся впервые обсудить военно-морскую проблематику. Вместо того чтобы заняться представленной сметой, Дума обратилась к сделанному группой народных избранников запросу о незаконных действиях министерства при постройке крейсера «Рюрик» на английском заводе Виккерса. Суть ситуации была в следующем: морское ведомство неоднократно указывало на преимущества российской артиллерии над заграничной, а потому на строящемся корабле решили установить орудия отечественного образца. С этой целью фирме «Виккерс» были переданы чертежи, по которым она обязалась изготовить соответствующую артиллерию и оснастить ею крейсер. Депутаты нашли такие действия странными, усмотрев в них нарушение государственной тайны чинами министерства, и потребовали расследования.