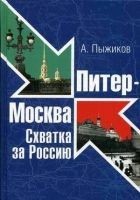Питер - Москва. Схватка за Россию - страница 50
...«Если бы мы такой хомут надели на наше отечество, мы тем самым лишили бы его всякой возможности удовлетворить каким бы то ни было культурным потребностям».
Расходы на судостроительную программу называли выброшенными деньгами, «данью, которую страна должна платить».
Помимо экономических аспектов военно-морских планов правительства, депутаты нижней палаты занимались и управленческими проблемами. По их убеждению, состояние морского ведомства не позволяло ему (даже при наличии соответствующих кредитов) осуществить намеченную судостроительную программу. Октябристу А.И. Звегинцеву министерство представлялось в образе «помещичьей разваливающейся усадьбы». После Русско-японской войны, почти уничтожившей отечественный военный флот, морская администрация и ее учреждения, по логике вещей, должны были сократиться. Но, разъяснял парламентарий, произошло обратное: ведомство продолжает расширяться и заказывает любые суда, какие только возможны на данный момент. Его цель вполне очевидна: создать флот, для которого нужны управленческие структуры. В России, по мнению Звегинцева, реализовывался принцип: не администрация существует для флота, а флот – для администрации. Как утверждал главный противник морской программы лидер октябристов А.И. Гучков, российский флот способен лишь «блестяще фигурировать на смотрах и на торжественных встречах».
Представленная смета Морского министерства категорически не устроила депутатов:
...«Нельзя считать планом те широкие предложения о восстановлении русского флота, которые будут стоить два миллиарда рублей».
К тому же проект был составлен вне связи с другими ведомствами, но ведь оборону, справедливо рассуждали думцы, невозможно разделить на морскую и сухопутную части. В результате депутаты не только не утвердили смету, но и выдвинули требование о полномасштабной сенатской ревизии в Морском министерстве. Не переубедил их и П.А. Столыпин, предлагавший сопоставить положение правительства с положением полководца на следующий день после поражения. В такой ситуации, подчеркнул он, первая задача – решить, как быть с остатками разбитой неприятелем силы. Вторая задача – как перестроить работу ведомства, не оказавшегося на высоте положения, как возобновить утраченные позиции, то есть какие строить суда. Наконец, третья – как организовать морскую оборону в связи с общей защитой государства.
...«Нет той волшебной палочки, от соприкосновения с которой в один миг может переустроиться целое учреждение»,
– сказал премьер. Поэтому нужно начинать работу сейчас, не допуская промедлений. В Государственном совете, который рассматривал смету Морского министерства после нижней палаты, столыпинские доводы нашли большее, чем у парламентариев, понимание. Неслучайно премьер говорил, что Государственный совет состоит «из лиц, умудренных государственным опытом»: они не обязаны во всем соглашаться с депутатами и в случае необходимости могут вносить поправки в решения Думы. Без этого существование двухпалатной системы утратило бы всякий смысл. Большинство членов Государственного совета именно так и расценивало свое политическое предназначение. Один из них, лидер правых П.Н. Дурново, в ответ на премьерские пожелания заявил:
...«Требовать от морского министра с ножом к горлу, чтобы он немедленно представил судостроительную программу, нельзя, а еще менее основательно ставить ему такую дилемму – или дай программу, или уходи прочь».
Особенно возмутило Дурново, что подобные требования выдвигают «люди, которые в жизни своей ни разу не видели военного корабля» и это нисколько не мешает им рассуждать о проблемах строительства и управления флотом. Вообще в Государственном совете соотношение сторонников и противников морской программы оказалось обратным по сравнению с Государственной думой. Меньшинство, солидарное с нижней палатой, здесь возглавлял граф Д.А. Олсуфьев, давно связанный с московской купеческой элитой. Он отвергал обвинения Думы в некомпетентности, усмотрев в этом проявление дореформенной привычки к ведомственному ведению дел. До возникновения законодательных учреждений именно чиновниками решались все важные вопросы. Порядки морского ведомства, сказал Олсуфьев, напоминали ему, как один слепой вел другого слепого, и оба упали в яму, которой оказалась Цусима. Но времена изменились: теперь необходим не только ведомственный подход, но и общегосударственный. Его-то в полной мере и продемонстрировала Дума: депутатские комиссии рассматривали морскую программу со всех сторон 28 раз! Тогда как комиссия Государственного совета вообще признала аналогичное обсуждение не относящимся к компетенции верхней палаты. И потому, по убеждению сенатора, только Дума смогла составить полноценное мнение о том, какой флот необходим России. Англия и Австрия, заметил Олсуфьев, не могут иметь одинаковый флот: разницу между морской и континентальной державами следует ставить во главу угла, а сравнение Англии с китом и России – с медведем не утратило силы. Но приверженцы строительства флота не воспринимали подобные мнения. Адмирал Ф.В. Дубасов требовал пресечь травлю Морского министерства в Государственной думе, общественных кругах и печати; В.И. Тимирязев призывал брать пример с немецкого парламента, который правильно понимает свою роль в решении подобных вопросов; П.А. Сабуров воспевал море, лучше воспитывающее души и характер, чем сухая земля, и т.д.