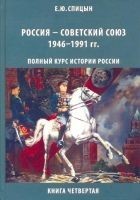Россия — Советский Союз, 1946–1991 гг. - страница 249
• как «верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР» и т.д.
Таким образом, именно российские депутаты спустили курок «суверенизации», и в тот же день на заседании Совета Федерации СССР, в состав которого по статусу входили все руководители союзных республик, они хором заявили, что впредь не будут безоговорочно выполнять указы и постановления союзного центра.
15 июня 1990 г. Верховный Совет РСФСР из трех предложенных Б.Н. Ельциным кандидатур на пост нового руководителя российского правительства — И.С. Силаева, Ю.А. Рыжова и М.А. Бочарова, утвердил в должности председателя Совета Министров РСФСР бывшего заместителя Н.И. Рыжкова по союзному правительству — Ивана Степановича Силаева.
Союзный центр стал лихорадочно искать возможные пути выхода из тупика, в который сам себя загнал. В частности, по утверждению тогдашнего народного депутата СССР полковника В.И. Алксниса, «где-то в середине июня 1990 г. он был приглашен в штаб Прибалтийского военного округа, где его командующий генерал-полковник Ф.М. Кузьмин по указанию Москвы» не только ознакомили его с планом введения чрезвычайного положения в Латвии, но и предложили ему возглавить новое республиканское правительство. При этом ему было сказано, что введение чрезвычайного положения планируется на 20 июля 1990 г.
Однако в названный день никаких чрезвычайных действий не последовало. Сам В.И. Алкснис склонен объяснять это нерешительностью М.С. Горбачева, но вероятнее всего, причина заключалась в том, что в конце июня 1990 г. новое литовское руководство объявило «стодневный мораторий» на выход из состава СССР «со дня начала переговоров с союзным правительством». В связи с этим Совет Министров СССР отказался от дальнейшей экономической блокады Литвы, а М.С. Горбачев тут же подписал указ «Об образовании делегации Союза ССР для проведения переговоров с делегацией Литовской ССР», руководителем которой был назначен Н.И. Рыжков. В создавшихся условиях все руководство прибалтийских республик вынуждено было отправиться в Москву, где как раз 20 июля 1990 г. состоялось совместное заседание Президентского совета и Совета Федерации.
Дезинтеграционные процессы продолжали развиваться по всей стране. По словам американского посла Дж. Мэтлока, принятие Россией декларации о независимости «вызвало цепь таких же решений в других республиках, и еще до конца года все они приняли декларации о суверенитете». Процесс суверенизации выглядел следующим образом: если до июня 1990 г. решение о своем суверенитете было принято только в Эстонии, Литве, Латвии и Азербайджане, то уже в июне — декабре 1990 г. декларации о суверенитете были приняты всеми союзными республиками, входящими в состав СССР: Россией, Украиной, Белоруссией, Молдовой, Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией, Туркменией, Таджикистаном, Арменией и Грузией.
Одновременно с этим начались и дезинтеграционные процессы в самой РСФСР, которые были спровоцированы союзным руководством. В апреле 1990 г. Верховный Совет СССР принял законы «Об основах экономических отношений Союза ССР, союзных и автономных республик» и «О разграничении полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации», в результате чего автономные республики приобрели статус «советских социалистических государств». К тому времени в Советском Союзе существовало 20 автономных республик: по одной в Узбекистане и Таджикистане, две — в Грузии и шестнадцать — в России. На долю российских автономий приходилось более четверти всей территории Российской Федерации.
В либеральной литературе (Р. Пихоя, Р. Медведев) можно встретить мнение, будто бы союзное правительство пыталось использовать «фактор автономий» для сдерживания выходящих из-под контроля союзных республик, прежде всего, России. Реально эти законы представляли собой мину замедленного действия, поскольку с одной стороны, они не отрицали того, что автономные республики по-прежнему «входят в состав союзных республик», но с другой стороны, признали их «субъектами федерации, то есть Союза ССР» и уравняли в правах с союзными республиками. Никаких противоречий в данном вопросе между союзным и российским руководством не существовало. Не случайно в августе 1990 г. председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин во время своей рабочей поездки по стране дословно заявил руководителям российских регионов «берите столько суверенитета, сколько можете переварить».
Этот призыв не вполне трезвого и адекватного «царя Бориса» тут же был подхвачен всеми лидерами русофобов-сепаратистов, и в июле ― октябре 1990 г. о своем государственном суверенитете заявили Северная Осетия, Карелия, Коми, Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Якутия, Бурятия, Башкирия, Калмыкия и Чувашия. Более того, Татария признала 15 октября «национальным днем памяти погибших при защите Казани от войск Ивана Грозного», а Якутия пошла еще дальше и объявила «землю и все природные ресурсы, а также средства и результаты производства на территории республики ее исключительной собственностью», что означало переход в ее полное распоряжение всех огромных месторождений золота и алмазов.
Если первоначально речь шла только о суверенитете республик, то уже в августе 1990 г. первый заместитель председателя Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатов на одном из брифингов прямо заявил, что «РСФСР готова взять на себя ответственность за обязательства СССР, а значит, стать его политическим правопреемником». Тогда же он объяснил американскому послу Дж. Мэтлоку, что скрывалось за его словами: «Советский Союз доживает последние дни, в ближайшее время он будет трансформирован в конфедерацию, и Россия станет его правопреемником по большинству внешнеэкономических обязательств».