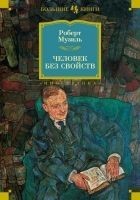Человек без свойств - страница 432
52
Дыхание летнего дня
Солнце тем временем поднялось выше; оставив шезлонги, как лодки на берегу, в мелкой тени у дома, они лежали на лужайке в саду подо всей глубиной летнего дня. Они лежали так уже довольно долго, и хотя обстановка изменилась, это не дошло до их сознания как перемена. Не дошло до него как перемена, собственно, и затишье в разговоре; он застрял, не оставив ощущения оборванности.
Бесшумный поток тусклых снежинок пуха, летевшего от группы отцветших деревьев, парил на солнечном свету; и дыхание, которое несло его, было таким легким, что ни один лист не дрожал. Никаких теней не падало оттуда на зелень газона, но она, казалось, становилась темней изнутри, как глаза. Нежно и расточительно одетые молодым летом в листву деревья и кусты, стоявшие в стороне или составлявшие задний план, производили впечатленье растерянных зрителей, которые в своей веселой одежде были застигнуты врасплох и, очарованно застыв, участвовали в этом похоронном шествии природы и ее празднике. Весна и осень, речь и молчание природы, да и волшебство жизни и смерти смешивались в этой картине; сердца, казалось, остановились, были вынуты из груди, присоединялись к этому молчаливому шествию по воздуху. «Тут сердце было вынуто у меня из груди», — сказал один мистик; Агата вспомнила о нем.
Помнилось ей также, что она сама прочла эти слова Ульриху, найдя их в одной из его книг.
Произошло это здесь, в саду, неподалеку от того места, где они теперь находились. Воспоминание стало полнее. На ум ей пришли и другие слова, которые она тогда воскресила в его памяти: «Ты ли это или это не ты? Я не знаю, где я; да и не хочу знать!» — «Я превзошел своих возможностей предел, дошел до темной силы! Влюблен я, но не ведаю, в кого! Сердце у меня полно любовью и пусто от любви же!» Опять, стало быть, зазвучал в ней плач мистиков, в чье сердце бог проник так глубоко, как шип, коснуться которого нельзя ничьим пальцам. Много таких блаженных плачей прочла она тогда Ульриху. Сейчас она воспроизводила их, быть может, неточно, память обходится несколько своевластно с тем, что она хочет услышать; но она поняла, что имелось в виду, и приняла решение. Таким таинственно покинутым и оживленным, как в этот миг осыпания лепестков, сад, значит, уже однажды выглядел; и было это как раз после того, как ей в руки попали мистические исповеди, имевшиеся среди книг Ульриха. Время остановилось, тысячелетие весило столько же, сколько глазом моргнуть, она достигла Тысячелетнего Царства, бог даже, может быть, давал ощутить себя. И пока она, хотя время ведь не должно было больше существовать, ощущала это одно за другим; и пока брат, чтобы она не боялась этого сна, был рядом, с ней, хотя и пространство тоже, казалось, перестало существовать, мир, несмотря на эти противоречия, был, казалось, сплошь наполнен преображением.
То, что с ней было с тех пор, не могло не показаться ей словоохотливо-умеренным по сравнению с предшествовавшим; да и как, впрочем, могло оно еще больше расшириться и подтвердиться, раз уж потеряло почти телесно теплую непосредственность первой внезапной мысли об этом! При таких обстоятельствах Агата решила осмотрительно встретить на сей раз восторг, который в тот раз охватил ее в этом саду почти как в сказке. Она познала, почему связала с ним название «Тысячелетнее Царство». Это было эмоционально-звонкое словцо, оно было почти осязаемо, как предмет, но разуму оставалось неясным. Оттого ей вольно было обходиться с этим представлением так, словно Тысячелетнее Царство могло начаться в любую минуту. Его называют также царство любви, это Агата знала тоже; однако лишь в последнюю очередь подумала она о том, что оба эти названия существуют с библейских времен и означают царство божье на земле, предстоящее начало которого понимается в совершенно реальном смысле. Кстати, и Ульрих, не проникаясь из-за этого верой в Писание, употреблял порой эти слова так же непринужденно, как сестра; и уж вовсе не удивило ее потому, что она словно бы сразу знала, как надо вести себя в Тысячелетнем Царстве. «В нем надо держаться совсем тихо, — говорила ей какая-то интуиция. — Нельзя оставлять место никаким желаниям; даже желанию спрашивать. Отказаться надо и от сноровки, с какой устраивают дела. Надо отнять у своего ума все его орудия и помешать ему самому быть орудием. Надо освободить его от знания и от хотения; надо отделаться от реальности и от стремления обратиться к ней. Нужно сдерживать себя до тех пор, пока голова, сердце и части тела не станут сплошным молчанием. Но стоит лишь достичь такой высшей самоотверженности, как соприкоснутся наконец внешний и внутренний миры, словно выпал клин, который разделял мироздание…»
Может быть, это вовсе и не было трезво обдумано. Но ей казалось, что если по-настоящему захотеть, то все это достижимо; и она собралась с силами, словно хотела притвориться мертвой. Но вскоре оказалось, что совсем остановить мысли, сигналы чувств и воли — такая же невозможная задача, какой было в детстве не согрешить между исповедью и причастием; и после некоторых усилий она совсем отказалась от этой попытки. Она поймала себя на том, что держалась своего намерения лишь внешне и что ее внимание давно отвлеклось от него. Сейчас оно было сосредоточено на далеком от этой темы вопросе, далеком просто чудовищно: она, самым глупым образом и страстно желая этой глупости, спрашивала себя: «Была ли я действительно когда-либо ожесточенной, злой, исполненной ненависти и несчастной?» Ей вспомнился один человек без фамилии, у которого не было фамилии, потому что она взяла ее себе и унесла с собой. Когда она подумала о нем, она ощутила свою фамилию как шрам, но она уже не почувствовала ненависти к Хагауэру, и теперь она повторила свой вопрос с тем несколько грустным упрямством, с каким глядят вслед откатившейся волне. Куда делась охота чуть ли не смертельно обидеть его? Она почти в рассеянности потеряла ее и, видимо, полагала, что та найдется где-нибудь поблизости. К тому же Линднер мог быть прямо-таки заменителем этого желания вражды; ибо и об этом спрашивала она себя и думала мельком о нем. Может быть, ей показалось тут удивительным, как много уже всякого с ней случалось; ведь молодым людям удивление по поводу того, сколько они уже перечувствовали, просто более присуще, чем старшим, для которых непостоянство страстей и состояний жизни так же привычны, как перемены погоды. Но что могло так задеть за живое Агату, как то, что в тот же миг на фоне коловращения жизни, вереницы ее страстей и состояний, на фоне причудливого потока чувства — где молодость, мало о том зная, кажется себе природно-великолепной, — что на этом фоне снова загадочно выделилось каменно ясное небо неподвижной мечтательности, от которой она только что пробудилась?