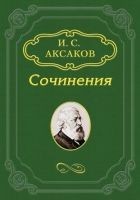О статье Ю. Ф. Самарина по поводу толков о констит - страница 2
Но радикалы того времени, как и радикалы нашей позднейшей поры, в сущности о конституции мало заботились, хотя мирились и с мыслью о конституции, как с средством ослабления власти и поводом к внутренней смуте. Сочувствие к конституции, – явно или тайно выражаемое, смотря по общественному положению, – было тем звеном, которое соединяло тогдашних людей «прогресса», людей «благоразумного», «умеренного либерализма», большею частью из бюрократической рати, с одной стороны, с радикалами, с другой – с партиею, восчувствовавшею в себе политическое властолюбие вслед за утратою известных привилегий. Не питая, конечно, лично никакой симпатии к революционным тенденциям, эта партия, «умеренные» бюрократы-либералы и иные, важничавшие «разумным прогрессом» люди, – думали воспользоваться радикализмом как пугалом и в видах предотвращения от сей опасности – предложить власти компромисс вроде какой-то конституции, формы которой они, впрочем, и сами себе не выяснили (да никем не выяснена она и до сих пор). Радикалы, как сказано, с своей стороны не были врагами этого компромисса. Будущий историк не мало подивится тому, что одновременно с совершением великого, всемирно-исторического труда, который, казалось, должен бы приковать к себе все внимание, притянуть к себе все умственные и духовные силы России, – в ту самую пору, как в уездах кипела живая, честная практическая работа, – в столицах происходило такое колобродство мыслей и чувств, такая антипатриотическая, антинациональная, «либеральная» свистопляска (слово, тогда же изобретенное), которая уподобляла общество чуть не дому умалишенных. В это самое время подготовлялся в Петербурге, с помощью Сераковских, огрызок и одураченных русских «либералов», польский мятеж… Мы помним также, как внезапно прибыл в Москву из-за границы и явился к нам с горячею рекомендациею одного из наших талантливых художников, добродушнейшего из русских, но отличавшегося органическим отсутствием всякого политического смысла, – юный иностранец чуть ли не польского происхождения, некто Артур Бенни, с заготовленным проектом адреса от русских к Государю. Рекомендовалась, разумеется, конституция! Этот непрошеный, а может быть даже и прошеный аттестовавшими его русскими, радетель о России предполагал собрать для своего адреса «по крайней мере сорок тысяч подписей»…
Так как мы уже в принципе не могли допустить никакого иностранного вмешательства в русское дело, то наше свидание с г. Бенни было коротко, и мы с тех пор его не видали; знаем только, что он был радушно принят в некоторых кругах, но адрес его, конечно, потерпел полнейшее fiasco. Мы упоминаем об этом эпизоде, как о характеристическом признаке времени, как о свидетельстве – до чего доходила не столько дерзость, сколько наивность, и не юноши Бенни только, но и русских, с ним нянчившихся: многознаменательная, красноречивая, поистине варварская, – и в конце концов все-таки преступная наивность, заслуживающая историко-психологического исследования!
Так как посылать адрес русскому царю от публики было неудобно, – притом же адрес, хотя бы и был подписан всеми, приписавшими себя к «прогрессу», или к «интеллигенции», как выражаются в наши дни, однако не представил бы не только сорока тысяч, но и четырехсот подписей (ибо состоящим на государственной службе подписываться было бы прямо невыгодно), то и возникла агитация о сочинении адреса от какой-нибудь организованной корпорации или сословия. Имелся в виду съезд дворян на выборы, в первый раз после издания манифеста 19 февраля 1861 г. Но от слов перейти к делу – шаг великий, да и политический такт дворянства не допустил его на сей раз до такой грубой политической ошибки… Через год вспыхнуло польское восстание, подготовленное отчасти самими нашими, обмороченными «либералами» и рассчитывавшее на содействие поляками же взлелеянной русской революционной партии. Расчеты оказались ошибочными, потому что, когда из области внутренней глухой борьбы, из недр внутреннего общественного духовного брожения, вопрос выплыл наружу, в форме, доступной общенародному пониманию, то есть когда дело коснулось внешней чести, достоинства и целости государства, – пробудились исторические инстинкты, и дух народный воспрянул во всей силе, а отрицательно-либеральные, разлагающие силы присмирели на время, в ожидании благоприятной поры. (Она и наступила, вслед за минованием опасности).
В этот-то промежуток времени, между освобождением крестьян и польским восстанием, когда слухи о готовившемся конституционном адресе дошли до Самары, Ю. Ф. Самарин и прислал к нам (мы тогда приступили к изданию «Дня»), на наше распоряжение, напечатанный в этом N проект заявления. Так как заявление имело характер гражданского действия, протеста, вынужденного гражданским же действием противоположного направления, то в такого рода действии, по нашему соображению, и не представлялось уже достаточного основания, как скоро мысль об адресе была оставлена: мы признали более приличным ограничиться чисто литературного, хотя несколько и отвлеченною борьбою с принципами, разъедавшими русское общество, и вызовом к жизни, по мере возможности, положительных стремлений и сил.
В то время отсутствие свободы печатного слова, – той доли свободы, которою мы теперь пользуемся, – являлось одним из самых крепких оплотов отрицательного и западно-либерального направления. Защитникам русского исторического и народного принципа приходилось сдерживать свои нападения, с одной стороны, для того, чтоб, по недосказанности, избежать смешения с толпою подлых человекоугодников, с другой – для того, чтоб не подать противникам дешевого способа уклоняться от спора, с видом лежачего или жертвы, которая будто бы имела нечто сказать ниспровергающее и неопровержимое, но осуждена на молчание. Этим, в высшей степени выгодным положением наши противники и пользовались, ловко проводя между строк свои теории, приучив публику разуметь их по одному неуловимому для цензуры намеку, – и в то же время преграждая возможность всякого честного возражения – обвинением противника в «доносе»: средство не совсем добросовестное, но достигавшее цели. В то время события еще не ставили вопроса об упомянутом историческом принципе так резко и повелительно, как в наши дни, когда самое благо нашей страны требует, чтоб каждый исповедал прямо и открыто свои убеждения, заявил себя по ту или по другую сторону; когда имеется возможность спора почти без недомолвок и нет опасности, по недосказанности, подать повод к оскорбительным недоразумениям. Конечно, никто теперь не дерзнет причислить К. С. Аксакова и Ю. Ф. Самарина к сонму льстецов и человекоугодников. Но в то время, когда Самарин писал этот проект публичного заявления, такое заявление представлялось делом своего рода гражданского мужества и вело прямо к утрате «популярности» в среде большинства русского общества. Этим и объясняются следующие строки Самарина: «Как ни ничтожны два-три голоса в массе голосов, поднявших современную разноголосицу, как ни несомненно, что эти одинокие голоса будут заглушены криком, топаньем, свистом и всеми орудиями убеждения современных прогрессистов (современных „либералов“, можно бы сказать теперь), однако в настоящую минуту молчать грешно. Мы настолько устарели в своих понятиях, что для нас свист не опровержение, рукоплескание не доказательство, а успех не мерило убеждения. Без всякой надежды на успех, мы просто считаем долгом совести, гласно и без всяких недомолвок, высказать то, что мы думаем по поводу современных толков об ограничении самодержания в России».