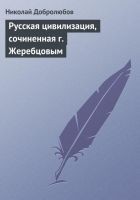Русская цивилизация, сочиненная г. Жеребцовым - страница 26
...Да никто из князей, вельмож и всех добрых христиан не входит в церковь с главою покровенною, в тафьях мусульманских. Да не вносят в алтарь ни пива, ни меду, ни хлеба, кроме просфор. Да уничтожится на веки нелепый обычай возлагать на престол так называемые сорочки, в коих родятся младенцы… Злоупотребления и соблазны губят нравы духовенства. Что видим в монастырях? Люди ищут в них не спасения души, а телесного покоя и наслаждений. Архимандриты, игумены не знают братской трапезы, угощая светских друзей в своих келиях. Иноки держат у себя отроков и юношей; принимают без стыда жен и девиц, разоряют села монастырские. Обители, богатые землями и доходами, не стыдятся требовать милостыни от государя: впредь да не стужают ему. Милосердие христианское устроило во многих местах богадельни для недужных и престарелых, а злоупотребление ввело в оные молодых и здоровых тунеядцев. Многие иноки, черницы, миряне, хвалясь какими-то сверхъестественными сновидениями и пророчеством, скитаются из места в место с святыми иконами и требуют денег для сооружения церквей, непристойно, бесчинно, к удивлению иноземцев… Духовенство обязано искоренять языческие и всякие гнусные обыкновения. Например, когда истец с ответчиком готовятся к бою, тогда являются волхвы, смотрят на звезды и пр. Легковерные держат у себя книги аристотелевские, звездочетные, зодиаки, альманахи, исполненные еретической мудрости. Накануне Иванова дня люди сходятся ночью, пьют, играют, пляшут целые сутки; также безумствуют и накануне рождества Христова, Василия Великого и богоявления. В субботу троицкую плачут, вопят и глумят на кладбищах, прыгают, бьют в ладоши, поют сатанинские песни. В утро великого четверга палят солому и кличут мертвых; а священники сей день кладут соль у престола и лечат ею недужных. Лжепророки бегают из села в село, нагие, босые, с распущенными волосами; трясутся, падают на землю, баснословят о явлениях св. Анастасии и св. Пятницы. Ватаги скоморохов, человек до ста, скитаются по деревням, объедают, опивают земледельцев, даже грабят путешественников на дорогах. Дети боярские толпятся в корчмах, играют зернью, разоряются. Мужчины и женщины моются в одних банях, куда самые иноки, самые инокини ходить не стыдятся. На торгах продают зайцев, уток, тетеревей удавленных; едят кровь или колбасы, вопреки уставу соборов вселенских; следуя латинскому обычаю, бреют бороду, подстригают усы, носят одежду иноземную, клянутся во лжи именем божиим и сквернословят; наконец, – что всего мерзостнее и за что бог казнит христиан войнами, гладом, язвою, – впадают в грех содомский (Карамзин, том IX, стр. 271–273, прим. 822–831).
Такой картины нравов (при всей смешанности понятий, господствующей в самом обличении), конечно, никто не назовет отрадною; а нужно прибавить, что Карамзин еще значительно смягчил многие выражения «Стоглавника». Пусть же судит по этому беспристрастный читатель, до какой степени одушевлено было русское общество теми высокими нравственными началами, которые должны были сделаться ему известными, – и формально были известны, – со времени Владимира.
Другое прекрасное явление древней Руси, способствовавшее прочному ее развитию и преуспеянию, указывают в патриархальности ее общественного устройства. «Все было гармонично, все оживлялось одним духом, во всем была простота и радушие, – говорят поклонники древней Руси. – Древнюю Русь нужно представлять себе огромною нравственною равниною: не было у нее ни лиц, ни сословий, которые бы резко выделялись из массы, подлежавшей общему уровню. Но эта равнина была подвижна, жива, растуща. Все в ней сливалось в удивительной гармонии. Государственная власть соответствовала потребностям народа; в своих действиях она опиралась на дружину, совет старцев, думу боярскую, городское вече, – и ими уравновешивались ее определения с волею народа. Высшее сословие – бояре служили органами, в которых воплощалось все лучшее, выработанное народной жизнью ж требовавшее распространения в массах. Их привилегии были основаны не на чинах и почестях, а на самом существенном из прав – праве рождения, и все почитали ето право священным и ненарушимым. Они не были связаны обязательной службой, но участвовали в делах правления из любви к общему благу. В то же время господствовали в России общественность и всенародность; суд и расправа были словесные и короткие; всенародность суда обусловливала его честность. Права сословий выросли из самой жизни; просвещение срослось с народом. Все это вело к консерватизму, который, однакоже, не был застоем, а плавным движением целого океана волн. Столь восхитительное общественное устройство отражалось и на жизни семейной: тишина, скромность, целомудрие, нежная покорность старшим составляли ее отличительные качества; в то же время гостеприимство и радушие украшали семьянина в его отношениях ко всем членам общества».
Так воспевают древнерусскую патриархальность многие ее поклонники. Они утешаются прекрасным ее изображением и находят, по-видимому, весьма удобным пробовать на себе слова поэта:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь.
Они действительно готовы проливать слезы умиления над вымышленной ими гармонией всех сил и явлений древней Руси. Может быть, это и хорошо, и даже полезно для забвения всех современных зол; может быть, мы и сами были бы довольны, если бы нашли возможность сочинять для себя такого рода утешения. Но, к несчастию, не всякому дается такая пылкая фантазия, как, например, гг. Розену, Вельтману, Классену и им подобным лицам, у которых небывалые факты истории так и снуют в голове, точно фантастические призраки в сказках Гофмана. При всех наших усилиях мы никак не можем вообразить древнюю Русь столь прекрасною и блаженною, как бы нам хотелось, если факты действительности говорят противное. А факты говорят вот что.