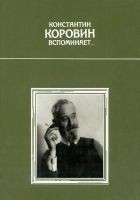Константин Коровин вспоминает… - страница 78
Утром проснулся — в окне опять дождливое небо. Вдали видна Сухарева башня. Одеваюсь. Сегодня надо работать декорации. Смотрю рисунки, пишу на них названия действующих лиц, из какого материала их делать. Сегодня, думаю, заеду в контору и отдам. Считаю: сорок два. А надо — двести.
В театральной конторе чиновники сидят, пишут, уткнув носы в бумаги, сердитые.
Вхожу к управляющему конторой московских театров. Подаю ему рисунки костюмов для «Садко». Он скучный такой сидит. Передаю ему рисунок за рисунком. Он кладет сбоку рисунка штемпель. Я говорю: «Волхова», «Индийский гость», «Варяжский гость», «Венецианский гость». Наконец «Царь». Он останавливается и смотрит на меня сквозь очки и говорит:
— Морской?
— Ну да, — говорю я, — конечно, морской. Это видно: зеленый, чудовище.
— Разве? — говорит он. — А у вас тут сверху написано «царь». Нельзя же.
Он берет перо и пишет на моем рисунке, перед словом «царь»: «морской».
— Послушайте, — говорю я ему. — Ведь на каждом рисунке у меня написано: «Опера „Садко“».
— Да, — говорит начальник, — конечно, но все же лучше пояснить.
Вышел из конторы. Тоска. На улице серо, дождь. Иду пешком до Трубной площади — решил позавтракать в «Эрмитаже». Вижу: сидит за столиком Михаил Провыч Садовский. Я сажусь с ним.
— Селянка хороша сегодня, — говорит мне Михаил Провыч… — Погода — тощища, ноябрь!.. До спектакля буду сидеть здесь. Играю сегодня. Знаешь, мой младший сын верхом, вот уже неделя, уехал из Москвы. Ау!..
— Куда же? — спрашиваю я.
— Да в Крым… Что с ним сделаешь: молодость. И ни телеграмм, ни письма. Как они не понимают — беспокоюсь и я, и мать. Да что? Сердца мало. Такая теперь молодежь. Главное — какой ездок? В первый раз поехал. И далеко ведь — Крым…
— Ничего, — говорю я отцу. — Он — ловкий, молодой!
— Да ведь я ничего не говорю. Пусть едет. Ничего не запрещаю, делай что хочешь. Новые люди… На днях артистка одна была у меня. Молодая. Так говорила мне, что в «Горе от ума» она хочет реабилитировать Молчалина, так как Молчалин — гораздо лучше дурака Чацкого. «Что ж — говорю ей, — валяйте, дорогая: теперь ведь все по-новому норовят». Мы уже в сторону, не нужны, стары.
— Ну, какая ерунда, — говорю я.
— Да, вздор, говоришь? Нет, не вздор! Скучно, брат, жить становится… Герой! — крикнул он вдруг половому.
К Садовскому подбежал маленького роста белобрысый половой. Почему он его называл «герой»?
— Принеси-ка «порционную», — сказал ему Садовский, — да селедку. Половой живо принес рюмку ему.
— Вот и живу, — продолжал Садовский. — Играю. Не знаю хорошо: помогает ли театр-то людям? Резона, понимаешь ли, резона мало в жизни. А жизнь — хороша! Как хороша! — Вот, зима скоро. Люблю я зиму. Душевная зима у нас, в Москве. Едешь на санках, в шубе… Хорошо! В окнах — огоньки светятся! Так приветливо. Думаешь: в каждом окне там жизнь. Любовь. А войди — ерунда все. Резону нет. Не понимают театр. Театр Истину говорит. А от него хотят развлеченья… «Весели меня, сукин сын, ты — актер»…
Садовский выпил рюмку водки и продолжал:
— Вот я люблю, когда галки летают. Кучей кружатся, садятся на кресты церквей… Хорошо живут!.. Вот ведь галка не полетит в Крым. Не надо. Ей и здесь хорошо. Чего лучше Москвы? А вот молодежь, новое искусство… Молчалина реабилитируют! Эх-ма!.. Был я за границей, нет там снегу. Вот как у нас теперь: дождик и галок нет. Так я соскучился по Москве — ужас! Уехал… Когда станцию пограничную Эйдкунен переехал, вот до чего обрадовался!.. Герой, — снова крикнул Садовский, — ну-ка, принеси мне поросеночка холодного.
— От погоды, — говорю, — Михаил Провыч, настроение у вас мрачное.
— Нет, брат, что погода? Я погоду всякую люблю… Сын уехал очертя голову. Ни телеграммы, ни письма. Все равно, что отец страдает. Горя мало… Новые люди!.. Ты — тоже молод. Охотник! Уйдешь на охоту — а мать дожидайся, в окно смотри… А, знаешь, и я ведь охотник был. Как-то в Петров день на охоту поехал. Знаешь Большие Мытищи? Молод был, как и ты. Приехал в Мытищи и пошел к Лосиному острову по речке Яузе. Болотце. Уток там на бочагах много. Заросль, осока. И собака у меня — пойнтер. Вестой звали, сука. Она, это, по осоке причуяла и выгнала крякву. Вылетела кряква, кричит, летит и падает по-бережку, падает — понимаешь? Я думаю: что такое? Паз! — и убил… крякву-матку. Тут я понял, что она, это, падала по берегу, чтобы мою собаку Весту отвести от выводка, от своих детей. Сел я на берегу бочага, на травку, а близко от меня Веста бегает, в осоке, по воде, и утят ищет. Вдруг вижу — из осоки ко мне на травку выглядывает большой утенок, кряковый. Ее утенок. И, увидав меня, прямо ко мне идет. Я притаился — прямо не дышу. А утка убитая лежит около меня — прямо около. Он подошел ко мне вплотную и сел около меня, около матери своей — утки-то убитой, сел и на меня глядит. Я тоже гляжу на него, и вдруг мне сделалось, понимаешь ли, так жалко его, так противно и подло. Что я наделал?.. Убил его мать. А она так хотела увести собаку, спасти детей… Понимаешь ли, когда вот написано в меню «утка», всегда вспоминаю я это подлое мое преступление. С тех пор, брат, не ем утки. Я так ревел, когда этот дикий утенок глядел на меня: глазенки у него были жалкие, печальные!.. Ты, наверное, думаешь про меня: «Дурак, сентиментальный старик»?.. Как хочешь. А я не могу. Бросил, брат, я охоту… Как вспомню утенка, у меня сейчас слезы подходят. Поверь мне, я не притворяюсь… Ушел я с охоты и утку оставил, не взял. А утенок так и остался сидеть около нее. Думаю: как быть? Тяжело мне… — что я наделал? Зашел в Мытищах к Гавриле, мужику, он на охоте был там сторожем, с господами охотниками ходил. «Вот, говорю ему, какая штука со мной случилась». А он смеется. Потом видит: я плачу. «Стой, — говорит, — барин я дело поправлю. У меня утки есть дикие, приученные. По весне беру утку, на кружок сажаю на болоте, на воде. Она кричит, к ней селезни летят, женихи, понимаешь, а их из куста охотник и щелкает. Так вот, я возьму ее и к нему, к утенку, и пущу. Только покажи мне место, где у тебя утка убитая лежит…»