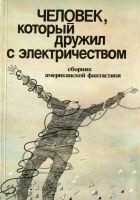Человек, который дружил с электричеством - страница 2
Но миновали суровые времена. В сентябре 1937 года редактором одного из ведущих научно-фантастических журналов «Поразительные истории» (впоследствии «Аналог: научная фантастика — научный факт») стал Джон Кемпбелл — писатель, известный под псевдонимом Дон Стюарт. (Показательно, что первый его рассказ, написанный в девятнадцать лет, назывался весьма научно: «Когда отказали атомы…») С его именем связана новая эра фантастики.
Возглавив журнал, Кемпбелл начал собирать свою «команду». В июле 1938 года журнал помещает рассказ Клиффорда Саймака «Правило 18». К тому времени Саймак был уже не новичком в литературе, но к Кемпбеллу он пришел как к издателю, который публикует такие, читай — научно-фантастические — рассказы. Поэтому справедливо полагать, что тогда и началась творческая биография этого выдающегося фантаста. До конца 1938 года в журнале появились произведения Леона Спрэга де Кампа, Лестера Дель Рея, Айзека Азимова, Роберта Хайнлайна, Теодора Старджона, Альфреда Ван Вогта — писателей, составивших славу не только американской, но и мировой фантастики. В 1940 году был опубликован рассказ Хайнлайна «Взрыв всегда возможен». На станции, где происходят события, энергию получают из урана-235. (Читатели журнала были в курсе научных и технических новинок, в том числе экспериментов с ураном Энрико Ферми и других ученых — этому было посвящено немало редакционных статей.) На страницах журнала Азимов впервые сформулировал ставшие потом знаменитыми три закона роботехники…
С началом второй мировой войны Хайнлайн, Спрэг де Камп, Азимов были призваны в армию, Дель Рей работал на военном заводе. Лишившись ядра своей «команды», Кемпбелл стал подыскивать им хотя бы временную замену. Его поиски увенчались успехом — в журнале появились Генри Каттнер (он печатался под многочисленными псевдонимами), Фриц Лейбер, Мюррей Лейнстер, Уильям Тенн, Пол Андерсон. Первые рассказы Альфреда Вестера — не публиковавшиеся у Кемпбелла, но по духу близкие его журналу — также увидели свет в 1939 году. (Одни названия чего стоят: «Безумная молекула», «Рабы луча жизни»!..) Годом позже вышел первый рассказ девятнадцатилетнего Фредерика Пола.
Так Кемпбелл собрал, сплотил и во многом сформировал писателей, которые на долгие годы стали его ведущими авторами и внесли свои имена в скрижали научной фантастики. (Кстати, Кемпбелл, став редактором, сам сочинять вскоре прекратил — видимо, одно из двух…) Все авторы журнала испытывали на себе влияние Кемпбелла. Он развил в них чувство принадлежности к одной семье. Разумеется, соревнование между ними шло, но — дружеское, побуждавшее их умножать знания, оттачивать фантазию, шлифовать мастерство.
Айзек Азимов вспоминает: «В те волшебные годы, начиная с тридцать восьмого, я видел фантастику глазами Джона Кемпбелла. Я учился писать под наставничеством этого великого издателя. Я приходил к нему, а он рассказывал, какие великолепные рассказы получил — от других. Рот мой наполнялся слюной, и я всем сердцем рвался достичь таких же чудесных высот, чтобы Джек так же отозвался обо мне и о моих рассказах».
А требовал Кемпбелл одного: автор должен жить в будущем, В свою очередь, будущее должно быть жизненным, реальным, объемным и логичным. Нельзя постулировать изобилие вертолетов, не задумываясь, каково при таком шуме будет в городе, да и сохранится ли он вообще…
Кемпбелл призывал своих авторов придерживаться строго научных гипотез (что позволило его воспитаннику Старджону дать такое определение: «Хороший научно-фантастический рассказ — это тот, сюжет которого построен на научной основе и без нее невозможен») и исследовать их социальные последствия. Ведь каждое крупное изобретение так или иначе меняет жизнь общества.
Подтверждение сказанному читатель найдет в рассказе Томаса Шерреда «Попытка». Собственно, его идея — устройство, позволяющее заглядывать в прошлое, — довольно тривиальна. Но писатель задается вопросом: каковы возможные последствия применения столь мощного инструмента? И сразу — какая буря страстей поднимается! Страстей, которые раньше терялись бы за описанием самого устройства…
«Мне нужны реакции, а не только действия. Даже если ваш герой — робот, читатель-человек ждет от него человеческих эмоций», — заявлял Джон Кемпбелл. И сейчас, спустя полвека, эти слова не потеряли своей актуальности.
…Да, они дружили с электричеством, сиречь с прогрессом. Все авторы представляемого сборника не мыслили своего творчества без строгой научной основы. Но с электричеством фантастику роднило еще одно, более печальное обстоятельство: соприкосновение с фантастикой доставляло неприятности ее творцам.
Профессиональный писатель-фантаст, естественно, пытался зарабатывать на жизнь литературным трудом. Увы, в Америке сороковых положение фантаста было незавидным. Даже самый никудышный выпускник филологического факультета не считал автора фантастических произведений писателем. Генри Каттнер и его жена Кэтрин Мур продавали издателям такие шедевры, как «Лучшее время года» и «Все тенали бороговы…» по полтора цента за слово. За роман «Вселенная» Хайнлайн получил триста долларов. Не зря бытует горький анекдот о триумфе фантаста в день посадки «Аполлона» на Луне: «А мы это делали, — говорит он с гордостью, — за сущие гроши!»
Надо ли удивляться, что в конце сороковых годов Хайнлайн ушел в детскую литературу, Ван Вогт ударился в паранауку, Спрэг де Камп отвернулся от фантастики, предпочтя ей научно-популярный жанр, а Азимов всерьез занялся биохимией и перешел на преподавательскую работу в Бостонском университете. По словам этого замечательного — и на редкость плодовитого — писателя, у него не было никаких надежд на то, что научная фантастика обеспечит ему пропитание…