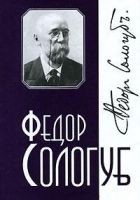Том 7. Стихотворения - страница 79
Есть в книге Сологуба стихотворение, которое может стать «классическим», как роман «Мелкий бес». Это стихотворение – «Нюренбергский палач». Классические произведения – это те, которые входят в хрестоматии и которые люди должны долгое время перечитывать, если они хотят, чтобы их не сочли необразованными. Правда, перечитывать такие произведения бывает иногда немного страшно: если взять сейчас в руки «Фауста», или «Онегина», или «Мертвые души», станет не по себе: древние воспоминания посещают. Может быть, поколения, следующие за нами, испытают то же, перечитывая «Нюренбергского палача».
Иннокентий Анненский. О современном лиризме
<…> Федор Сологуб – петербуржец.
На последней из известных мне книг его стихов написано, что она 8-я (издана в 1908 г., 202 с. Москва, Изд-во «Золотое Руно»).
Две вещи наиболее чужды поэзии Сологуба, насколько я успел ее изучить.
Во-первых, непосредственность (хотя где же они и вообще у нас, Франсисы Жаммы? уж не лукавый ли Блок?).
Во-вторых, неуменье или нежеланье стоять вне своих стихов. В этом отношении это разительный контраст с Валерием Брюсовым, который не умеет – и не знаю, хочет ли когда, – оставаться внутри своих стихов, а также с Вячеславом Ивановым, который даже будто кичится тем, что умеет уходить от своих созданий на какое хочет расстояние. (Найдите, например, попробуйте, Вячеслава Иванова в «Тантале». Нет, и не ищите лучше, он там и не бывал никогда.)
Сологуб, как это ни странно, для меня лучше всего характеризуется именно объединенностью этих двух отрицательно формулированных свойств.
Как поэт, он может дышать только в своей атмосфере, но самые стихи его кристаллизуются сами, он их не строит.
Вот пример:
Мы – плененные звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.
Если сердце преданиям верно,
Утешаяся лаем, мы лаем.
Что в зверинце зловонно и скверно,
Мы забыли давно, мы не знаем.
К повторениям сердце привычно, –
Однозвучно и скучно кукуем.
Все в зверинце безлично, обычно.
Мы о воле давно не тоскуем.
Мы – плененные звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.
Прежде всего – слышите ли вы, видите ли вы, как я вижу и слышу, что мелькнуло, что смутно пропело в душе поэта, когда он впервые почувствовал возможность основной строфы этой пьесы?
Первой обозначившейся строчкой была третья в напечатанном стихотворении:
– Глухо заперты двери.
Вы узнаете ее, конечно?..
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
Тихо запер я двери –
Ведь это была тоже третья строчка в стихотворении Пушкина «Пью за здравие Мэри».
Данная пьеска Корнуэлла, и по имени Мэри, и по эпохе пушкинского вдохновения (1830), нераздельно сочетается для нас, и для Сологуба тоже, конечно, – с «Пиром во время чумы» Уильсона-Пушкина. Я не говорю уже о том, что самый «Пир» теперь для читателя невольно приобретает именно сологубовский колорит.
Контрасты Пушкина сгладились, мы их больше не чувствуем – что же делать? Осталось нечто грубо хохочущее, нечто по-своему добродушно-застращивающее, осталась какая-то кладбищенская веселость, только совсем новая, отнюдь более не-Шекспировская форма юмора.
За дверями пришли к Сологубу и звери. Но они пришли неспроста. О, это – звери особенные. У них есть своя история. Метафора? Отнюдь нет. Здесь пережитость, даже более – здесь постулат утраченной веры в будущее. Сложная вещь эта Сологубовская метэмпсихоза. Иногда ему хочется на нее махнуть рукою, а иногда она развалится возле в кресле (как в предисловии в «Пламенному кругу», например): вот, мол, и у нас своя теософия, – а вы себе там как хотите!
Помните «Собаку седого короля», эту великолепную собаку:
Ну вот живу я паки,
Но тошен белый свет:
Во мне душа собаки,
Чутья же вовсе нет.
(«Пламенный круг», с. 25)
Вы думаете, чутья же вовсе нет – это тоже аллегория? Ничуть не бывало. Лирический Сологуб любит принюхиваться, и это не каприз его, и не идиосинкразия – это глубже связано с его болезненным желанием верить в переселение душ. Сологубу подлинно, органически чужда непосредственность, которая была в нем когда-то, была не в нем – Сологубе, а в нем – собаке. И как дивно обогатилась наша лирика благодаря этому кошмару юродивого:
Высока луна господня.
Тяжко мне.
Истомилась я сегодня
В тишине.
Ни одна вокруг не лает
Из подруг.
Скучно, страшно замирает
Все вокруг.
В ясных улицах так пусто,
Так мертво.
Не слыхать шагов, ни хруста,
Ничего.
Землю нюхая в тревоге,
Жду я бед.
Слабо пахнет по дороге
Чей-то след.
Никого нигде не будит
Быстрый шаг.
Жданный путник, кто ж он будет, –
Друг иль враг?
Под холодною луною
Я одна.
Нет, невмочь мне, – я завою
У окна.
Высока луна господня,
Высока.
Грусть томит меня сегодня
И тоска.
Просыпайтесь, нарушайте
Тишину.
Сестры, сестры! войте, лайте
На луну!
Я не потому выписал здесь это стихотворение, что оно должно сделаться классическим, – что Геката всегда будет и будет всегда женщиной; – что меня и в этом не только уверила, но доказала мне это данная пьеса. Нет, я выписал стихи – как комментарий к первым – «отчего и когда мы голосим» и «зачем и по какому праву мы – поэты». Здесь все ответы.