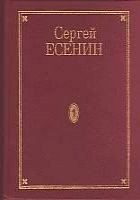Том 3. Поэмы - страница 85
«Баллада о двадцати шести» была создана в сентябре и 22 сентября напечатана в Бак. раб. Но уже в конце августа поэме о «клокочущем пятом годе» и политкаторжанах Шлиссельбурга было дано иное название: «36». В письме к О. М. Бескину, написанном 1 сентября 1924 г., Есенин назвал ее «балладой „36“», а рукой неустановленного лица (скорее всего, работником редакции, где имелся автограф этого произведения под названием «26. Баллада») карандашом «2» исправлено на «3». Второй вариант названия «36. Баллада» зафиксирован также в машинописном списке поэмы. Текст этой вещи, сданный в З. Вост. до 17 сентября 1924 г., получил третье окончательное заглавие «Поэма о 36» (см. объявления о публикации «Поэмы о 36» в З. Вост., 1924, 17 сент., № 679; 1924, 21 сент., № 683). В письме к Г. А. Бениславской от 17 октября 1924 г. Есенин указал: «Эрлиху напишите, чтоб поэму пускал как „36“, а не „26“». 13 ноября этого же года Бениславская писала Эрлиху, что Есенин «название „26“ изменил на „36“ и в заглавии и в тексте. ‹…› „26“ переименовать в „36“, соответственно изменив в тексте» (Письма, 341–342).
Образность поэмы навеяна, в частности, мотивами стихотворений И. Ионова, вошедших в его сб. «Алое поле», Пг., 1917 (первое издание), с которым Есенин был, несомненно, знаком. Ср., например, перекличку строк «Если ты хочешь // В лес, // Не дорожи головой» и «Хочется вырвать // Окно // И убежать в луг», которые являются сквозным лейтмотивом поэмы, со стихотворением, написанным И. Ионовым в Шлиссельбурге:
О, пустите меня,
Дайте лесом дышать,
Дайте яркости дня
Мою грудь обласкать.
Дайте в травы лугов
Опуститься, уснуть.
У зеленых стогов
Отдохнуть, отдохнуть.
(Ионов И. Алое поле. Пг., 1917, с. 17)
Строки «Я знаю, наверно, // И ты // Видал на снегу // Цветы» и «Капал горячий // Мак» (с. 146 наст. т.) восходят к стихотворению И. Ионова «Цветы казненных», ср. «Цвели, как знак кровавых дней», см. также «Первые цветы» и «Снежинки» (V) — «цветов ароматы» и др. Цветы были яркой приметой жизни политкаторжан «нового Шлиссельбурга». Небольшой дворик, где совершались совместные прогулки, был украшен цветами, посаженными заключенными. Некоторые из них «занимались сушкой цветов, которыми обклеивали специально нарезанные картонки вроде почтовых открыток и в письмах отправляли своим родным» (сб. «На каторжном острове», с. 162, 183). Выражение «цветы Шлиссельбурга» стало нарицательным. В 1963 г. единственная из здравствовавших тогда участниц «Группы помощи политкаторжанам Шлиссельбурга» А. Я. Бруштейн опубликовала документальную повесть о шлиссельбуржцах под названием «Цветы Шлиссельбурга».
Клен, который дважды упоминается в поэме как знак родного дома и России, является не только сквозным образом поэзии Есенина, но встречается и у Ионова в заключительных строках стихотворения «Узник», также написанного в Шлиссельбурге:
Темный лес, река и клен,
Перед смертью из неволи
Вам поклон!
(Ионов И. Алое поле, с. 16)
С. 141. Баргузин — северо-восточный ветер на Байкале (Даль, 1, 48). Ср. «Эй, баргузин, пошевеливай вал…» из песни «Славное море, священный Байкал…» (сб. «Русские народные песни» / Сост. А. Г. Новиков. Сб. 1–3. М.—Л., 1936–1937, Сб. 1, с. 176).
С. 143. Шлиссельбург. — В пер. «ключ-город» — наименование г. Петрокрепость в 1702–1944 гг. на Ореховом острове, в истоке Невы из Ладожского озера. В поэме Есенина упоминается трижды как исторический знак, уходящий в далекое прошлое России (основан новгородцами в 1323 г.). После постройки Кронштадта (1703) утратил военное значение и превратился в тюрьму, где содержались особо опасные политические заключенные, начиная с сына Петра I царевича Алексея: в XIII–XIX вв. — опальные царедворцы, раскольники, беглые крестьяне, А. Н. Радищев, писатели-просветители Н. И. Новиков, В. Н. Каразин и др., а также несколько поколений революционеров, в том числе декабристы А. П. Барятинский, В. К. Кюхельбекер, И. И. Пущин и др., народовольцы Г. А. Лопатин, Н. А. Морозов, В. Н. Фигнер, члены «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», Н. Э. Бауман, М. С. Ольшанский, А. С. Шаповалов, брат В. И. Ленина — А. И. Ульянов, М. Горький и др. (см. «Галерея шлиссельбургских узников». Ч.1. СПб., 1907; Гернет М. Н. История царской тюрьмы. В 5 т. Изд. 3-е. т. 4, Петропавловская крепость. 1900–1917, М., 1962). Значение Шлиссельбурга как места лишения свободы со времени первой русской революции 1905 г. изменилось. Он перестал быть тюрьмой для отбывания наказания и стал преимущественно местом предварительного заключения, после которого осужденные ссылались на поселение или отбывали каторжные работы в Сибири (это получило отражение в тексте Есенина, ср. «До енисейских мест // Шесть тысяч один // Сугроб»). В 1907–1917 гг. через Шлиссельбург прошли свыше 530 политкаторжан.
Воспоминания политкаторжан говорят о том, что Есенин лаконично, но очень точно отразил условия их заключения (см. указ. сб. «На каторжном острове»). В годы, предшествовавшие написанию «Поэмы о 36», вышли в свет воспоминания известных шлиссельбуржцев: Морозов Н. А. Повести моей жизни. М., 1916–1918, т. 1–4; Фигнер В. Н. Запечатленный Труд. М., 1922; Панкратов В. С. Жизнь в Шлиссельбургской крепости. Пг., 1922. Шлиссельбургская крепость стала историко-революционным музеем (1922). Шлиссельбургский музей решено было организовать также в Москве (см. газ. «Известия ВЦИК», М., 1919, 23 апр., № 85). Всесоюзное общество политкаторжан и ссыльно-поселенцев в 20-е гг. издавало свой журнал «Каторга и ссылка», откуда Есенин также мог почерпнуть интересующие его сведения.