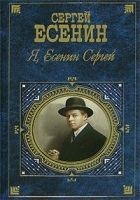Я, Есенин Сергей… - страница 7
Нет-нет, он вовсе не подлаживается под общий тон. Ему действительно померещилось, будто сможет отдать строителям нового мира не только лиру, но и душу. Пример главного соперника – Маяковского, наступившего из высших государственных соображений на горло собственной песне, все-таки, видимо, впечатлял. Но чтобы прорваться всерьез, надо было создать произведение не просто лояльное, но и художественно значительное, и Есенин, удрав на Кавказ, принимается за «Анну Снегину»…
Вместо истинно революционной поэмы о славной советской нови получилась хроника погибели веками стоявшего крестьянского мира. Сам Есенин этого пока почему-то не понимает, даже не перебелив текст, спешит в Москву в полной уверенности, что теперь-то с него снимут унизительную метку: попутчик…
Первое публичное чтение «Анны Снегиной» состоялось весной 1925 года в Москве в Доме Герцена и кончилось провалом. Совэксперты, заседавшие в президиуме, о прочитанном отозвались с холодком. Еще равнодушнее отреагировала пресса: за полгода – всего несколько беглых и невыразительных фраз в провинциальных изданиях… Неужели досадная случайность? Вряд ли. Контрреволюция – не как убеждение, а как состояние – сидела в Есенине глубже, чем его внешняя эмоциональная революционность. Они даже как-то сосуществовали. И. Оксенов, к примеру, запомнил, что в апреле 1924 года, то есть именно тогда, когда Есенин отдавал в печать просоветские поэмы и революционную балладу, на, казалось бы, бытовой вопрос, часто ли ездит на родину и видится ли с родителями, ответил: «Мне тяжело с ними. Отец сядет под дерево, а я чувствую всю трагедию, которая произошла с Россией…»
Чувство трагедии, которая произошла с Россией, – нерв «Анны Снегиной», и критика это сразу своим безошибочно классовым чутьем угадала. А вот Есенин понял смысл того, что он написал в «прекраснейшей поэме», лишь несколько месяцев спустя…
Итак, на дворе год 1925-й. Безумного Капитана Земли нет в живых, но сконструированный им Корабль пролетарского социализма под управлением Великого Кормчего все упорнее и упорнее гребется в грядущее, по ватерлинию в человечьей крови…
«Не тот социализм», утесняя таинственный и древний мир крестьянской жизни, вытеснял глашатая несостоявшейся Великой земледельческой республики в «узкий промежуток» частной жизни:
Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне…
Того, что и эта часть его судьбы, преображенная в пленительные стихи, станет национальной святыней, Есенин, конечно, и предположить не мог… И проводив отчалившую в небытие Голубую Русь, эмигрировал из несбывшейся Инонии, страны, текущей молоком и медом, в Русь Бесприютную:
Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники желтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.
И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином…
А вскоре и вообще ушел «в ту страну, где тишь и благодать». Отлетел, как пушкинский Моцарт, «с земли на незримую сушу», так и не отдав заветной лиры ни современникам, орущим агитки бедного Демьяна, ни ближайшим потомкам, читавшим тайком его кабацкие запретные стихи. Ибо лира уже была завещана грядущим поколениям, тем, кому придется восстанавливать – взорванное, оболганное, но, кажется, еще живое…
...Лирика
Был у нас в селе праведный человек, отец Иван. Он мне и говорит: «Татьяна, твой сын отмечен Богом».
Татьяна Федоровна Есенина
* * *
Вот уж вечер. Роса
Блестит на крапиве.
Я стою у дороги,
Прислонившись к иве.
От луны свет большой
Прямо на нашу крышу.
Где-то песнь соловья
Вдалеке я слышу.
Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят,
Как большие свечки.
И вдали за рекой,
Видно, за опушкой,
Сонный сторож стучит
Мертвой колотушкой.
* * *
Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.
Калики
Проходили калики деревнями,
Выпивали под окнами квасу,
У церквей пред затворами древними
Поклонялись Пречистому Спасу.
Пробиралися странники по полю,
Пели стих о сладчайшем Исусе.
Мимо клячи с поклажею топали,
Подпевали горластые гуси.
Ковыляли убогие по стаду,
Говорили страдальные речи:
«Все единому служим мы Господу,
Возлагая вериги на плечи».
Вынимали калики поспешливо
Для коров сбереженные крохи.
И кричали пастушки насмешливо:
«Девки, в пляску. Идут скоморохи».
* * *
Поет зима – аукает,
Мохнатый лес баюкает
Стозвоном сосняка.
Кругом с тоской глубокою
Плывут в страну далекую
Седые облака.
А по двору метелица
Ковром шелковым стелется,
Но больно холодна.
Воробышки игривые,
Как детки сиротливые,
Прижались у окна.
Озябли пташки малые,
Голодные, усталые,
И жмутся поплотней.
А вьюга с ревом бешеным
Стучит по ставням свешенным
И злится все сильней.
И дремлют пташки нежные
Под эти вихри снежные
У мерзлого окна.
И снится им прекрасная,
В улыбках солнца ясная
Красавица весна.
* * *
Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется – на душе светло.
Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог,
Сядем в копны свежие под соседний стог.
Зацелую допьяна, изомну, как цвет,
Хмельному от радости пересуду нет.
Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты,
Унесу я пьяную до утра в кусты.
И пускай со звонами плачут глухари.
Есть тоска веселая в алостях зари.