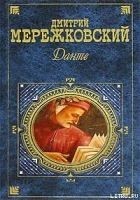Данте - страница 47
Данте был спасен от гибели только тем, что слепые люди называют «случаем», а видящие — Промыслом.
«Был, в эти дни, государем Равенны, славного и древнего города Романьи, благородный рыцарь, по имени Гвидо Новелло да Полента, воспитанный в свободных науках и почитавший всех доблестных мужей, особенно же тех, кто превосходствовал в знаниях, — вспоминает Боккачио. — Когда дошел до него слух о том, в каких отчаянных обстоятельствах находился бывший тогда в Романьи Данте, о чьих высоких достоинствах он давно уже знал по молве, то решил он принять его и почтить. И, не ожидая, чтобы тот его об этом попросил, потому что в великодушном сердце своем он чувствовал, как достойные люди стыдятся просить — сам пошел к нему навстречу и просил у него, как особой милости, того, о чем Данте, как знал Гвидо, должен был его просить, а именно, чтобы он согласился у него жить. И так как эти два желания, просящего и просимого, совпали, и великодушие благородного рыцаря пришлось по сердцу Данте, а крайнею нуждою он был, в эти дни, как бы схвачен за горло, то, по первому же зову Гвидо, поспешил он в Равенну, где тот принял его с почетом, удовольствовал всем, что нужно для безбедной жизни, и умершую было надежду в нем воскресил».
Верно и глубоко понял Боккачио истинную цену того, что сделал Гвидо Новелло для Данте. Понял, вероятно, и сам Данте, только что увидел его лицом к лицу, что это не благодетель, а друг, и что не государь оказывает честь нищему изгнаннику, а он — государю. Как всегда бывает в братской помощи, милостивы были друг к другу оба равно, — тот, кто помогал, и тот, кто принимал помощь.
Вечная слава Гвидо Новелло не то, что он, спасая Данте, спас для мира «Божественную комедию», а то, что человек спас человека, брата — брат, когда на крик погибающего: «Есть ли в мире живая душа?», он один ответил: «Есть!»
Данте — человек, попавшийся на большой дороге разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив едва живого; лучшие же современники Данте подобны левиту и священнику, которые прошли мимо того человека, а милостивый Самарянин — Гвидо Новелло. После Беатриче сделал для Данте величайшее добро он: та спасла душу его, а этот спас тело; но иногда и тело стоит души: надо его спасти, чтоб не погибла душа.
Многое должны были простить друг другу Гвидо и Данте. Два государя, возвысившие род Полента, Бернардино и Ламберто, яростные Гвельфы, усердно помогали мечом и советом «флорентийцам негоднейшим», в их войне-восстании против Арриго Высокого, «Посланника Божия», чья кровь была на них и на всем роде Полента. Это должен был Данте простить Гвидо, а тот ему — жестокие оскорбления рода его, в «Комедии», где заклеймены Полента, как злейшие «тираны», поджигатели вечных войн и «приблудные дети», выродки, а родственники Гвидовой супруги, — как «фальшивомонетчики».
Может быть, таинственно сблизила оскорбленного с оскорбителем и помогла им друг друга простить грешная для мира, но для них святая память Франчески да Римини, чья кровь текла в жилах Гвидо: отец Франчески был братом его отца.
Земля, где Данте нашел последнее убежище, Равенна, была родной землей Франчески.
Я родилась на берегу, у моря,
Куда с притоками своими По
Вливается, чтоб вечный мир найти.
Вечною бурей гонимая, в подземном аду, жаждет Франческа вечного мира так же неутолимо, как Данте, — в аду земном.
О, милая, родная нам, душа…
Владыку мира, будь Он нашим другом,
Молили б мы дать мир тебе за то,
Что пожалел ты нас в великой скорби!
Эта мольба отверженных Богом, такая робкая, что не смеет сделаться молитвой, будет исполнена: как бы сама Франческа, подземная сестра Беатриче Небесной, даст «родной душе» Данте, в своей родной земле вечный мир.
Гвидо Новелло был поэтом, учеником Данте, в «сладком новом слоге» любви, dolce stil nuovo. Может быть, и это их сблизило.
Кто умирает, любя, тот вечно живет, —
это, сказанное Гвидо, могла бы сказать и Франческа.
Отдых сладчайший должен был почувствовать Данте, только что вошел наконец не в чужой, а в свой собственный дом, может быть, у церкви св. Франциска Ассизского, древней византийской базилики Сан Пьетро Маджиоре, где и похоронить себя завещает. Верно угадал Гвидо, что жить ему будет отраднее не у него во дворце, а в своем собственном доме. Видно, по этой догадке, как сердечно-тонок и умен был Гвидо в своей любви к Данте.
О, какой сладчайший отдых для усталого странника войти в свой дом и знать, что можно в нем жить и умереть; какое блаженство не чувствовать горькой соли чужого хлеба и крутизны лестниц чужих! Какая была отрада для Данте, разложив на столе пожелтевшие листки неоконченной «Комедии», знать, что не надо будет их снова связывать в пачки и укладывать в дорожную суму; не надо будет снова увязывать нищенскую рухлядь в тюки все более жесткими и все больнее, с каждой укладкой, режущими пальцы, веревками; не надо будет просыпаться в ночной темноте, в привычный час бессонницы, чтобы пересчитывать в уме последние гроши и, обливаясь холодным потом от ужаса, думать: «Хватит на столько-то дней, а после что?» Какой сладчайший отдых лечь в постель и знать, что злая Забота не разбудит до света петушьим криком на ухо, не стащит одеяла, не подымет сонного и не погонит снова, как Вечного Жида с горки на горку, из ямки в ямку, ломать и сращивать кости!
«Только одного желал он — тени, тишины и покоя», — верно понял Петрарка. Этого искал Данте везде, всю жизнь, но только здесь, в Равенне, в конце жизни, нашел. Лучшего места нельзя себе и представить для последнего убежища Данте, чем ветхая днями Равенна — могила веков, колыбель вечности.