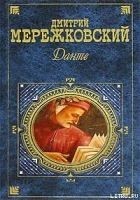Данте - страница 69
— «Входящие, оставьте все надежды», и надежду на Него, мнимого Победителя Ада. Князю мира сего, уже и сейчас принадлежит большая часть этого мира и, по крайней мере, третья часть того — Ад; но и во второй части, в Чистилище, диавол страшно силен: только что древний Змий появляется там, на цветущем лугу, в виде крошечной «ехидны», biscia, как все полуспасенные души бегут от него в ужасе. И в Земном Раю он все еще так силен, что разрушает «колесницу Христову», Церковь. И даже в Раю Небесном сила его не побеждена окончательно: когда Апостол Петр говорит о превращении Церкви в «помойную яму, где смешаны кровь и грязь, на радость Сатане», — красное зарево вспыхивает на небе:
Тогда все небо покраснело так,
Как на восходе иль закате солнца
Краснеет густо грозовая туча.
Это зарево — как бы взрыв огня — Ада — в Раю. Вот как хорошо знает Данте силу не мнимого диавола, нелепого и жалкого, почти смешного, которого видит в сердце Ада, а настоящего, который в Дантовом Аду если не отсутствует, то остается невидимым, и чей только бледный отблеск мелькает иногда на лице таких «великодушных» грешников, «презрителей Ада», как Фарината, Улисс, Капаней, а яснее всего, может быть, на лице ему, Данте, «родной души», Франчески да Римини.
Кажется иногда, что есть у Данте, сходящего в Ад, кроме Вергилия, еще другой, невидимый Спутник — не светлый и не темный, а Сумеречный Ангел:
То не был ада дух ужасный.
Порочный мученик, о нет!
Он был похож на вечер ясный, —
Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.
Может быть, в спутнике этом самое страшное и соблазнительное — то, что он так похож иногда на того, кому он сопутствует: «дух возмущенный» в них обоих — один.
Только ли «ревность люта, как преисподняя» — Ад? Нет, и жалость тоже: это узнает Данте, увидев муки Ада. Прежде чем в него сойти, он уже предчувствует, что самым для него страшным в Аду будет «великое борение с жалостью»:
День уходил; уже темневший воздух
Покоил всех, живущих на земле,
От их трудов, и только я один
Готовился начать труднейший путь,
И с жалостью великое боренье
Мне предстояло.
И, видя муки Ада, он изнемогает в этом борении:
Великая меня смутила жалость.
Сколько бы ни укорял его добрый вождь, Вергилий:
Ужель и ты — один из тех безумцев,
Кто осужденным Богом сострадает?
Здесь жалость в том живет, кто не жалеет
— эти хитрые доводы разума не заглушают простого голоса сердца, и все-таки первое естественное чувство, при виде мук, — жалеть.
Здесь вздохи, плачи, громкие стенанья
Звучали в воздухе беззвездном так,
Что, внемля им, и я заплакал,
Вид стольких мук так помутил мне очи,
Что одного хотел я — плакать, плакать.
Вся душа его исходит в этих слезах, истаивает от жалости, как воск — от огня.
Самая невыносимая из всех человеческих мук — бессильная жалость: видеть, как близкий человек, или даже далекий, но невинный, страдает, хотеть ему помочь и знать, что помочь нельзя ничем. Если эта мука слишком долго длится, то жалеющий как бы сходит с ума от жалости и не знает, что ему делать, — себя убить или того, кого он жалеет. Кажется, нечто подобное происходило и с Данте, в Аду. Надо удивляться не тому, что он иногда почти сходит с ума от всего, что там видит, а тому, что не совсем и не навсегда лишается рассудка.
В последней, десятой, «Злой Яме», Malebolge, где мучаются фальшивомонетчики, такой был смрад от тел гниющих, как если бы все больные гнилой горячкой «из больниц Мареммы, Вальдикьяны и Сардиньи свалены были в одну общую яму». Кажется иногда, что сам Данте, надышавшись этого смрада, заражается гнилою горячкою Ада и, в беспамятстве бреда, уже не знает, что говорит и что делает.
«Кто ты?» — спрашивает он, нечаянно ударив ногой по лицу одного из замерзших в Ледяном Озере. Но тот не хочет назвать себя и только ругается кощунственно, проклиная Бога или диавола, мучителя.
Тогда, схватив его за чуб, я крикнул:
«Себя назвать ты должен, должен будешь,
Иль не останется на голове твоей
Ни волоска!» — «Так пусть же облысею, —
Он мне в ответ, — себя не назову,
И моего лица ты не увидишь!»
Уж на руку себе я намотал
Все волосы его и больше, чем одну
Я вырвал прядь, а он, скосив глаза
И пряча от меня лицо, залаял.
Кто в эту минуту страшнее, безумнее, — мучимый грешник или мучающий праведник?
В пятом круге, при переправе через Стикс, утопающая тень грешника высовывает голову и руки из липкой и зловонной грязи, чтобы ухватиться за край ладьи.
«Кто ты, сюда до времени сошедший?»
Так он спросил, и я ему в ответ:
«Сюда пришел, но здесь я не останусь.
А кто ты сам, покрытый гнусной грязью?»
И он: «Я тот, кто плачет, видишь!»
Этих двух слов: «кто плачет», казалось бы, достаточно, чтобы напомнить Данте о вечном человеческом братстве в вечных муках двойного ада, земного и подземного. Но страх лютой жалости в нем так силен, что он спасается, бежит от него в безумие, в беспамятство, и, как это часто бывает с людьми, слишком страдающими от жалости, ожесточает сердце свое, чтобы не жалеть — не страдать.
… «Я тот, кто плачет, видишь!»
«Так с плачем же своим и оставайся! —
Воскликнул я. — Под всей твоею грязью
Я узнаю тебя!» Тогда он руки
К ладье простер, но оттолкнул его
Учитель и сказал: «Прочь, пес нечистый!»
Потом меня он обнял и, в уста
Поцеловав, воскликнул:
«О гордая душа' Благословенна
Носившая тебя во чреве!»
Худшего места и времени, кажется, нельзя было выбрать для такого благословения:
И я в ответ: «Хотелось бы, учитель,
Увидеть мне, как он в грязи утонет прежде,
Чем из нее мы выйдем!» — «Не успеешь
Ты берега достигнуть, — он сказал, —
Как утолишь свое желание»…
И тотчас Увидел я, как тех нечистых псов
Вся мерзостная свора устремилась
Так яростно, чтоб растерзать его,
Что все еще за то благодарю я Бога.