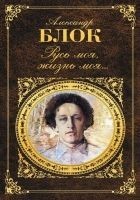Русь моя, жизнь моя… - страница 36
Твой.
Из твоих писем я понял, что ты способна бросить сцену. Я уверен, что, если нет настоящего большого таланта, это необходимо сделать. Хуже «актерского» быта мало на свете ям. Коммиссаржевская играет мою (т. е. Грильпарцерову) Берту.
В. В. Розанову
17 февраля 1909. <Петербург>
Глубокоуважаемый Василий Васильевич.
Прочитал я обе заметки Ваши в «Новом времени», в которых Вы говорите обо мне. Хочу написать Вам сейчас только так – несколько слов, потому что надеюсь ответить подробно на все в печати, если дадут место в «Речи».
Мне очень легко возразить Вам по каждому пункту, но, пожалуй, не могу сговориться с Вами в одном: т. е. точно так же, как Вы останетесь совершенно собою, так я останусь в этом одном – представителем разряда людей, Вам непонятных и даже враждебных, представителем именно интеллигенции (так как Вы говорите обо мне, в сущности, как о представителе группы, а упоминая о «декадентстве», «индивидуализме» и т. д., – метите мимо меня). Я очень рад именно тому, что я имею право возразить Вам именно как представитель группы лиц; и потому возражать я буду меньше всего – глубокому мистику и замечательному писателю Розанову, больше всего – «нововременцу» В. В. Розанову. Великая тайна, и для меня очень страшная, – то, что во многих русских писателях (и в Вас теперь) сплетаются такие непримиримые противоречия, как дух глубины и пытливости и дух… «Нового времени».
Ведь я, Василий Васильевич, с молоком матери впитал в себя дух русского «гуманизма». Дед мой – А. Н. Бекетов, ректор СПб. университета, и я по происхождению и по крови «гуманист», т. е., как говорят теперь, – «интеллигент». Это значит, что я могу сколько угодно мучиться одинокими сомнениями как отдельная личность, но как часть целого я принадлежу к известиной группе, которая ни на какой компромисс с враждебной ей группой не пойдет. Чем более пробуждается во мне сознание себя как части этого родного целого, как «гражданина своей родины», тем громче говорит во мне кровь. Я не отрицаю, что я повинен в декадентстве, но кто теперь в нем не повинен, кроме мертвецов? Думаю, что и Вы его не избегли, потому что оно – очень глубокое и разностороннее явление.
Так вот, не мальчишество, не ребячливость, не декадентский демонизм, но моя кровь говорит мне, что смертная казнь и всякое уничтожение и унижение личности – дело страшное, и потому я (это – непосредственный вывод, заметьте, тут ни одной посылки для меня не пропущено) не желаю встречаться с Пуришкевичем или Меньшиковым, мне неловко говорить и нечего делать со сколько-нибудь важным чиновником или военным, я не пойду к пасхальной заутрене к Исакию, потому что не могу различить, что блестит: солдатская каска или икона, что болтается – жандармская епитрахиль или поповская ногайка. Все это мне по крови отвратительно. Что старому мужику это мило – я не спорю, потому что он – уже давно раб, а вот молодым, я думаю, всем это страшно, и тут – что народ, что интеллигенция – вскоре (как я чаю и многие чают) будет одно.
Очень заговорился, хотел бы еще много сказать Вам, но лучше оставлю до статьи. Только вот еще: Вы неверно меня цитируете в обоих случаях; кроме того, знаю я эту любовь к мелочам быта, люблю ее в Вас лично ужасно и боюсь ее в Вас как писателе. Позвольте мне, в числе многих других и как бы уже не от своего лица, сказать Вам, что этой любовью, этой прелестью и нежностью невольно прикрываются самые страшные ямы – сентиментальность и жестокость – родные сестры. Уж лучше, я думаю, быть «бесчувственным».
Искренно Вас уважающий Александр Блок.
Из воспоминаний об Александре Блоке
М. Горький
В ресторане «Пекарь» барышня с Невского рассказывала мне:
– Это у вас книжечка того Блока, известного? Я его тоже знала, впрочем – только один раз. Как-то осенью, очень поздно и, знаете, слякоть, туман, уже на думских часах около полуночи, я страшно устала и собиралась идти домой, – вдруг, на углу Итальянской, меня пригласил прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо, я даже подумала: иностранец. Пошли пешком, – тут, недалеко, по Караванной, десять, комнаты для свиданий. Иду я, разговариваю, а он – молчит, и мне было неприятно даже, необыкновенно как-то, я не люблю невежливых. Пришли, я попросила чаю; позвонил он, а слуга – не идет, тогда он сам пошел в коридор, а я так, знаете, устала, озябла и уснула, сидя на диване. Потом вдруг проснулась, вижу: он сидит напротив, держит голову в руках, облокотясь на стол, и смотрит на меня так строго – ужасные глаза! Но мне – от стыда – даже не страшно было, только подумала: «Ах, боже мой, должно быть, музыкант!» Он – кудрявый. «Ах, извините, говорю, я сейчас разденусь».
А он улыбнулся вежливо и отвечает: «Не надо, не беспокойтесь». Пересел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, гладя волосы: «Ну, подремлите еще». И – представьте ж себе – я опять заснула, – скандал! Понимаю, конечно, что это нехорошо, но – не могу. Он так нежно покачивает меня и так уютно с ним, открою глаза, улыбнусь, и он улыбнется. Кажется, я даже и совсем спала, когда он встряхнул меня осторожно и сказал: «Ну, прощайте, мне надо идти». И кладет на стол двадцать пять рублей. «Послушайте, говорю, как же это?» Конечно, очень сконфузилась, извиняюсь, – так смешно все это вышло, необыкновенно как-то. А он засмеялся тихонько, пожал мне руку и – даже поцеловал. Ушел, а когда я уходила, слуга говорит: «Знаешь, кто с тобой был? Блок, поэт – смотри!» И показал мне портрет в журнале, – вижу: верно, это он самый. «Боже мой, думаю, как глупо вышло».