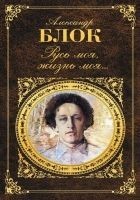Русь моя, жизнь моя… - страница 64
28
10 августа <1909>
Революция у нас провела резкую черту между прошедшей общностью труда и кой-каких интересов и настоящей разобщенностью их.
В частности – мы, писатели, отделены и хотим быть отделены от «общества» непроходимой чертой. Литература наша есть наука, недоступная неспециалистам. Есть литераторы, популяризаторы и проч. (Боборыкин, Потапенко, наполовину Л. Андреев), и есть писатели (Вал. Брюсов, А. Белый). Часть держится еще традиций прошлого (отчасти – Мережковский), но это – сидение между двумя стульями, которое должно рано или поздно кончиться.
Если хотите «почитать новенького», – возьмите то, чего мы не называем уже русской литературой.
Если хотите учиться, – идите к нам, мы кой-кого из вас, пожалуй, примем в ученики, при условии скромности и послушания.
<Первая половина августа 1909>
Культуру нужно любить так, чтобы ее гибель не была страшна (т. е. она в числе всего достойного любви). Мировоззрение запуганного веком, да уж что поделаешь.
<…>
<5 сентября (?) 1909>
Форма искусства есть образующий дух, творческий порядок. Содержание – мир: явления душевные и телесные. (Бесформенного искусства нет, «бессодержательное» – вследствие отсутствия в нем мира душевного телесного – возможно.) Сколько бы Толстой и Достоевский ни громоздили хаоса на хаос – великий хаос я предпочитаю в природе. Хорошим художником я признаю лишь того, кто из данного хаоса (а не в нем и не на нем) (данное: психология – бесконечна, душа – безумна, воздух – черный) творит космос.
А. Иванов («Стереоскоп»), Брюсов – проза. От Пушкина.
22–23 сентября. Ночь
Ночное чувство непоправимости всего подползает и днем. Все отвернутся и плюнут, – и пусть – у меня была молодость. Смерти я боюсь и жизни боюсь, милее всего прошедшее, святое место души – Люба. Она помогает – не знаю чем, может быть, тем, что отняла? – Э, да бог с ними, с записями и реестрами тоски жизни.
29
30 ноября – 1 декабря <1909>
Ничего не хочу – ничего не надо. Длинный коридор вагона – в конце его горит свеча. К утру она догорит, и душа засуетится. А теперь – я только не могу заснуть, так же как в своей постели в Петербурге.
Передо мной – холодный мрак могилы,
Перед тобой – объятия любви.
Отец лежит в Долине роз и тяжко бредит, трудно дышит. А я – в длинном и жарком коридоре вагона, и искры освещают снег. Старик в подштанниках меня не тревожит – я один. Ничего не надо. Все, что я мог, у убогой жизни взял, взять больше у неба – не хватит сил. Заброшен я на Варшавскую дорогу так же, как в Петербург. Только ее со мной нет – чтобы по-детски скучать, качать головкой, спать, шалить, смеяться.
У «Гнедича» все идет как по маслу – творчества нет, он сам о нем не помышляет и нас не заставляет. У Ремизова только и дума, что о цельном творчестве, постоянное спотыкание, один рассказ от злости и бессилия сотворить цельное – прямо переходит в билиберду. Все – неравномерно, отрывисто, беспокойно, – хотя гораздо уже плавнее, чем в прежних книгах. Да еще бы, откуда этой плавности взяться? Ее и у Достоевского не было. Ремизов – не Толстой, чтобы, сидя в деревне, спокойно и важно нарисовать блистательные, вальяжные главы, за главами части, и таких частей – восемь (!). И все– цельно. Но Ремизов зато и не Гнедич. Простой, удивительно простой ключ ко всему «творчеству» фотографа Гнедича – весь ключ в том, что творчества вовсе нет, оно устранено. Откуда почерпнул г. Гнедич такое спокойствие душевное, такую «эпичность» – остается неизвестным. Ясно – не у Гомера. Не у героя ли своего – чиновника особых поручений «Выдыбаева»? Как бы то ни было, Ремизов и Гнедич – небо и земля, антиподы, обоим друг на друга, вероятно, без смеху взглянуть невозможно. Один – писатель, в «муке творчества», ищущий… Другой – литератор, без творчества, чиновник особых поручений при литературе.
1 декабря, вечером
Подъезжаю к Варшаве. По обыкновению, томлюсь без Любы – не могу с ней расстаться. Что-то она? – Среди редких искр – несколько звезд. Мерцает свечка. Отобрали билеты. – За четверть часа уже видно зарево над Варшавой – проклятый спутник больших городов.
30
18 февраля <1910>
Люба довела маму до болезни. Люба отогнала от меня людей, Люба создала всю ту невыносимую сложность и утомительность отношений, какая теперь есть. Люба выталкивает от себя и от меня всех лучших людей, в том числе – мою мать, то есть мою совесть. Люба испортила мне столько лет жизни, измучила меня и довела до того, что я теперь. Люба, как только она коснется жизни, становится сейчас же таким дурным человеком, как ее отец, мать и братья. Хуже, чем дурным человеком, – страшным, мрачным, низким, устраивающим каверзы существом, как весь ее Поповский род. Люба на земле – страшное, посланное для того, чтобы мучить и уничтожать ценности земные. Но – 1898–1902 <годы> сделали то, что я не могу с ней расстаться и люблю ее.
11 марта <1910>
<…>
Наблюдения:
Армянин, настроив скрипку, дудит для кого-то. Его брови – крышей. Нет, оказывается, действительно (о, какие длинные слова на русском языке) дудил вообще. Ему аплодируют. – Теперь пришел дирижер – опять – весь скрипичный оркестр. «Скрипки жалуются помимо воли пославшего их» (запомнил – трезвый).
<…>
11–12 мая <1910>, утром рано, в 4 часа
Есть у нас арендатор – мелкий мошенник. Жена у него Ольга и четверо детей – Тимоша, Вася, Ваня и Маня. Он испортил и недодал сбрую, не сдал овса, продал корову и лошадь, не вывез дров, наворовал по мелочам.