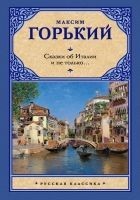Сказки об Италии и не только… (сборник) - страница 31
– Важен генерал, а не очень умный…
Идёт неуклюжий Валей, ступая по грязи тяжело, как старая лошадь; скуластое лицо его надуто, он смотрит, прищурясь в небо, а оттуда прямо на грудь ему падает белый осенний луч, – медная пуговица на куртке Валея горит, татарин остановился и трогает её кривыми пальцами.
– Точно медаль получил, любуется…
Я быстро и крепко привязался к Хорошему Делу, он стал необходим для меня и во дни горьких обид, и в часы радостей. Молчаливый, он не запрещал мне говорить обо всём, что приходило в голову мою, а дед всегда обрывал меня строгим окриком:
– Не болтай, бесова мельница!
Бабушка же была так полна своим, что уж не слышала и не принимала чужого.
Хорошее Дело всегда слушал мою болтовню внимательно и часто говорил мне, улыбаясь:
– Ну, это, брат, не так, это ты сам выдумал…
И всегда его краткие замечания падали вовремя, были необходимы, – он как будто насквозь видел всё, что делалось в сердце и голове у меня, видел все лишние, неверные слова раньше, чем я успевал сказать их, видел и отсекал прочь двумя ласковыми ударами:
– Врёшь, брат!
Я нередко нарочно испытывал эту его колдовскую способность; бывало, выдумаю что-нибудь и рассказываю как бывшее, но он, послушав немножко, отрицательно качал головою:
– Ну, врешь, брат…
– А почему ты знаешь?
– Уж я, брат, вижу…
Часто, отправляясь на Сенную площадь за водой, бабушка брала меня с собою, и однажды мы увидели, как пятеро мещан бьют мужика, – свалили его на землю и рвут, точно собаки собаку. Бабушка сбросила вёдра с коромысла и, размахивая им, пошла на мещан, крикнув мне:
– Беги прочь!
Но я испугался, побежал за нею и стал швырять в мещан голышами, камнями, а она храбро тыкала мещан коромыслом, колотила их по плечам, по башкам. Вступились и ещё какие-то люди, мещане убежали, бабушка стала мыть избитого; лицо у него было растоптано, я и сейчас с отвращением вижу, как он прижимал грязным пальцем оторванную ноздрю, и выл, и кашлял, а из-под пальца брызгала кровь в лицо бабушке, на грудь ей; она тоже кричала, тряслась вся.
Когда я, придя домой, вбежал к нахлебнику и стал рассказывать ему, он бросил работу и остановился предо мной, подняв длинный напильник, как саблю, глядя на меня из-под очков пристально и строго, а потом вдруг прервал меня, говоря необычно внушительно:
– Прекрасно, именно так и было всё! Очень хорошо!
Потрясённый виденным, я не успел удивиться его словам и продолжал говорить, но он обнял меня и, расхаживая по комнате, спотыкаясь, заговорил:
– Довольно, больше не надо! Ты уж, брат, все сказал, что надо, понимаешь? Все!
Я замолчал, обидясь, но, подумав, с изумлением, очень памятным мне, понял, что он остановил меня вовремя: действительно я всё сказал.
– Ты, брат, на этих случаях не останавливайся, – это нехорошо запоминать! – сказал он.
Иногда он неожиданно говорил мне слова, которые так и остались со мною на всю жизнь. Рассказываю я ему о враге моем Клюшникове, бойце из Новой улицы, толстом, большеголовом мальчике, которого ни я не мог одолеть в бою, ни он меня. Хорошее Дело внимательно выслушал горести мои и сказал:
– Это – ерунда; такая сила – не сила! Настоящая сила – в быстроте движения; чем быстрей, тем сильней – понял?
В следующее воскресенье я попробовал действовать кулаками быстрее и легко победил Клюшникова. Это ещё более подняло мое внимание к словам нахлебника.
– Всякую вещь надо уметь взять, понимаешь? Это очень трудно – уметь взять!
Я не понял ничего, но невольно запоминал такие и подобные слова, именно потому запоминал, что в простоте этих слов было нечто досадно таинственное; ведь не требовалось никакого особого уменья взять камень, кусок хлеба, чашку, молоток!
А в доме Хорошее Дело всё больше не любили; даже ласковая кошка весёлой постоялки не влезала на колени к нему, как лазала ко всем, и не шла на ласковый зов его. Я её бил за это, трепал ей уши и, чуть не плача, уговаривал её не бояться человека.
– У меня одежда пахнет кислотами, вот кошка и не идёт ко мне, объяснял он, но я знал, что все, даже бабушка, объясняли это иначе, враждебно нахлебнику, неверно и обидно.
– Пошто ты торчишь у него? – сердито спрашивала бабушка. – Гляди, научит он тебя чему-нибудь…
А дед жестоко колотил меня за каждое посещение нахлебника, которое становилось известно ему, рыжему хорьку. Я, конечно, не говорил Хорошему Делу о том, что мне запрещают знакомство с ним, но откровенно рассказывал, как относятся к нему в доме.
– Бабушка тебя боится, она говорит – чернокнижник ты, а дедушка тоже, что ты богу враг и людям опасный…
Он дергал головою, как бы отгоняя мух; на меловом его лице розовато вспыхивала улыбка, от которой у меня сжималось сердце и зеленело в глазах.
– Я, брат, вижу уж! – тихонько говорил он. – Это, брат, грустно, а?
– Да!
– Грустно, брат…
Наконец его выжили.
Однажды я пришел к нему после утреннего чая и вижу, что он, сидя на полу, укладывает свои вещи в ящики, тихонько напевая о розе Сарона.
– Ну, прощай, брат, вот я и уезжаю…
– Зачем?
Он пристально посмотрел на меня, говоря:
– Разве ты не знаешь? Комната нужна для твоей матери…
– Это кто сказал?
– Дедушка…
– Врёт он!
Хорошее Дело потянул меня за руку к себе, и, когда я сел на пол, он заговорил тихонько:
– Не сердись! А я, брат, подумал, что ты знаешь, да не сказал мне; это нехорошо, подумал я…
Было грустно и досадно на него за что-то.
– Послушай-ко, – почти шёпотом говорил он, улыбаясь, – ты помнишь, я тебе сказал – не ходи ко мне? Я кивнул головой.