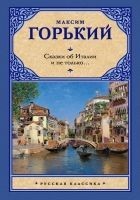Сказки об Италии и не только… (сборник) - страница 89
ТАТЬЯНА. Вы поругались?
ШИШКИН. Собственно говоря… не очень! Я – сдержанно…
ЦВЕТАЕВА. Но – из-за чего? Ведь вы же сами хвалили Прохорова?..
ШИШКИН. Увы! Хвалил… черт побери! И, в сущности, он… порядочнее многих… неглуп… немножко вот – хвастун… болтлив и вообще (неожиданно и горячо) – порядочная скотина!
ТАТЬЯНА. Едва ли теперь Петр станет доставать вам уроки…
ШИШКИН. Н-да, пожалуй, рассердится он…
ЦВЕТАЕВА. Да что у вас вышло с Прохоровым?
ШИШКИН. Представьте себе, он – антисемит!
ТАТЬЯНА. А вам какое дело до этого?
ШИШКИН. Ну, знаете… неприлично это! Недостойно интеллигентного человека! И вообще он – буржуй! Хотя бы такая история: его горничная ходила в воскресную школу. Чудесно! Он же сам прескучно доказывал мне пользу воскресных школ… о чем я его совсем не умолял! Он даже хвастался, что я-де один из инициаторов устройства школы. И вот недавно, в воскресенье, приходит он домой и – ужас! Дверь отворяет не горничная, а нянька! Где Саша? В школе. Ага! И – запретил горничной посещать школу! Это как назвать, по-вашему?
Татьяна пожимает плечами молча.
ЦВЕТАЕВА. А такой он говорун…
ШИШКИН. Вообще говоря, Петр, точно на смех, достает мне уроки всё у каких-то шарлатанов.
ТАТЬЯНА (сухо). Помнится, вы очень хвалили казначея…
ШИШКИН. Да… конечно… старикашка милый Но – нумизмат! Сует мне под нос разные медяшки и говорит о цезарях, диадохах и разных там фараонах с колесницами. Одолел, – сил моих нет! Ну, я ему и говори: «Послушайте, Викентий Васильевич! А по-моему, все это – ерунда! Любой булыжник древнее ваших медяков!» Он – обиделся. «Что же, говорит, я пятнадцать лет жизни на ерунду убил?» Я же – ответил утвердительно. При расчете он полтину мне не додал… очевидно, оставил ее для пополнения коллекции. Но это – пустяки… а вот с Прохоровым я… н-да… (Уныло.) Скверный у меня характер! (Торопливо.) Слушайте, Марья Никитишна, идемте, пора!
ЦВЕТАЕВА. Я готова. До свидания, Таня! Завтра воскресенье… я приду к тебе с утра…
ТАТЬЯНА. Спасибо. Мне… право, кажется, что я какое-то ползучее растение у вас под ногами… ни красы во мне, ни радости… а идти людям я мешаю, цепляясь за них…
ШИШКИН. Какие вредные мысли, фу-у!
ЦВЕТАЕВА. Обидно слышать это, Таня…
ТАТЬЯНА. Нет, погоди… ты знаешь? Я понимаю: поняла жестокую логику жизни: кто не может ни во что верить – тот не может жить… тот должен погибнуть… да!
ЦВЕТАЕВА (улыбаясь). Разве? А может быть, нет?
ТАТЬЯНА. Ты передразниваешь меня… ну, стоит ли? Смеяться надо мною… стоит ли?
ЦВЕТАЕВА. Нет, Таня, нет, милая! Все это говорит твоя болезнь, усталость, а не ты… Ну, до свидания! И не считай нас жесткими и злыми…
ТАТЬЯНА. Идите… до свидания!
ШИШКИН (Поле). Ну-с, когда же вы будете читать Гейне? Ах да, вы замуж… гм! Против этого можно бы кое-что сказать… но – до свидания! (Уходит вслед за Цветаевой.)
Пауза.
ПОЛЯ. Наверно, скоро всенощная кончится… Сказать, чтоб подавали самовар?
ТАТЬЯНА. Едва ли старики будут пить чай… Как хочешь, впрочем.
Пауза.
Раньше тишина тяготила меня, а теперь мне приятно, что у нас тихо.
ПОЛЯ. Вам не пора ли принять лекарство?
ТАТЬЯНА. Нет еще… Последние дни у нас было так суетно, крикливо. Какой шумный этот Шишкин…
ПОЛЯ (подходя к ней). Хороший он…
ТАТЬЯНА. Добрый… но глупый…
ПОЛЯ. Славный он, смелый. Где что увидит несправедливое – сейчас вступается. Вот – горничную заметил. А кто замечает, как живут горничные и другие люди, служащие богатым? И если заметит кто, – разве вступится?
ТАТЬЯНА (не глядя на Полю). Скажи мне, Поля… Ты не боишься… за Нила замуж идти?
ПОЛЯ (спокойно, с удивлением). Чего же мне бояться? Нет, ничего, я не боюсь…
ТАТЬЯНА. Чего?.. А я… боялась бы. Я говорю с тобой об этом потому, что… люблю… тебя! Ты не такая, как он. Ты – простая… он – много читал, он уж образованный. Ему, может быть, скучно с тобой… Ты думала об этом, Поля?
ПОЛЯ. Нет. Я знаю, он меня любит…
ТАТЬЯНА (с досадой). Как можно это знать…
Тетерев вносит самовар.
ПОЛЯ. Вот спасибо вам! Пойду за молоком. (Уходит.)
ТЕТЕРЕВ (он с похмелья, опухший). Иду мимо кухни, а Степанида взмолилась: «Батюшка! Внеси самовар! Я, говорит, тебе, когда понадобится, огурчика дам, рассольцу…» Соблазнился я, чревоугодник:
ТАТЬЯНА. Вы уже ото всенощной?
ТЕТЕРЕВ. Нет, не ходил сегодня. Башка трещит. Вы – как? Лучше чувствуете себя?
ТАТЬЯНА. Ничего, спасибо. Меня об этом спрашивали раз двадцать в день… Я чувствовала бы себя еще лучше, если б у нас было менее шумно. Меня немножко раздражает эта беготня… все куда-то стремятся, кричат. Отец – злится на Нила, мать – все вздыхает… А я лежу, наблюдаю и… не вижу смысла в том, что они… все эти… называют жизнью.
ТЕТЕРЕВ. Нет, любопытно! Я человек посторонний, не причастный делам земли… живу из любопытства и нахожу, что здесь – довольно интересно.
ТАТЬЯНА. Вы невзыскательны, я знаю. Но – что ж тут интересного?
ТЕТЕРЕВ. А вот – люди настраиваются жить. Я люблю слушать, когда в театре музыканты настраивают скрипки и трубы. Ухо ловит множество отдельных верных нот, порою слышишь красивую фразу… и ужасно хочется скорее услыхать, – что именно будут играть музыканты? Кто из них солист? Какова пьеса? Вот и здесь тоже… настраиваются…
ТАТЬЯНА. В театре… да. Там приходит дирижер, взмахивает палочкой, и музыканты скверно, бездушно играют какую-нибудь старую, избитую вещь. А здесь… а эти? Что они способны сыграть? Я не знаю.
ТЕТЕРЕВ. Кажется что-то фортиссимо…
ТАТЬЯНА. Посмотрим.