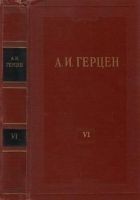Том 6. С того берега. Долг прежде всего - страница 121
Через несколько месяцев родился у нашей четы сын. Ребенок был разительно похож на отца. Это сходство привело в восторг Столыгина; он до того расходился в первые минуты радости, что с благосклонной улыбкой спрашивал Тита: «Ты видел маленького?» – и когда Тит отвечал, что не сподобился еще счастия, Михайло Степанович велел кормилице показать маленького барина Титу. Тит подошел к ножке новорожденного и со слезами умиления три раза повторил:
– Настоящий папенька – вылитый папенька – папенькин патрет.
Михайло Степанович отдал тут же Титу приказ, чтоб люди не смели садиться, когда кормилица с ребенком в комнате, а кормилице разрешил сидеть даже в своем присутствии, чего, впрочем, она никогда не делала, повинуясь инструкции моряка. Кормилица была из Линовки. За две недели до родов Марьи Валерьяновны приказал Михайло Степанович моряку выслать для выбора двух-трех очень здоровых и недавно родивших баб с их детьми. Моряк выслал шесть, и мера эта оказалась вовсе не излишней: от сильного мороза и слабых тулупов две лучшие кормилицы, отправленные на пятый день после родов, простудились, и так основательно, что потом сколько их старуха птичница ни окуривала калганом и сабуром, все-таки водяная сделалась; да у третьей на дороге с ребенком родимчик приключился, – вероятно, от дурного глаза, – и несмотря на чистый воздух и все удобства для больных детей в санной езде, он умер, не доезжая до Репиловки, где обыкновенно липовские кормили. У матери молоко поднялось от этого в голову, она оказалась неспособною кормить грудью. Остались три, как Михайло Степанович приказывал. Из них он сам с повивальной бабкой избрал женщину, действительно замечательную, – замечательную, во-первых, потому, что, будучи второй год замужем, она не утратила ни красоты, ни здоровья и была то, что называется кровь с молоком, – я даже сказал бы: со сливками. На организм, который не только безнаказанно, но так торжественно вынес бедность, работу, отца, мать, жнитво, мужа, двух снох, старосту, свекровь и барщину, – можно было смело! положиться. – К тому же Михайло Степанович велел ей производить ежедневно селедку и бутылку пива. При помощи таких средств, без работы, защищаемая вначале довольно успешно «от барского гнева и от барской любви» Марьей Валерьяновной, кормилица в два месяца стала вдвое толще и румянее, так что свекровь, приходившая иногда из деревни, не могла без ненависти видеть ее и каждый раз бормотала, выходя из ворот:
– Вишь, разъелась на барских чаях-то, дай-ка воротиться домой – я спущу с нее жир в неделю.
Говорят даже, что почтенная старушка добросовестно сдержала обещание.
Марья Валерьяновна радовалась от всей души, видя, что муж ее любит ребенка; его раздражительной заботливости, капризной мнительности не было границ. Эта любовь была у Столыгина какою-то болезнию, лихорадкой; минутами он даже бывал нежен с малюткой, – так много противоречий прячется в груди человеческой. Но и эта любовь не могла исправить Столыгина: он слишком сложился. – Для дворни малютка сделался новым источником гонений и несчастий. Малейший шорох, стук во время его сна, открытое окно, сквозной ветер, отворенная дверь – все это выводило из себя Столыгина. Что выне сла бедная няня, та самая Настасья, которая послужи ла невольной причиной смерти Льва Степановича, мудрено себе представить; надобно было непременно железное здоровье и вечно несовершеннолетний нрав, удовлетворяющийся болтовней и ворчаньем, чтоб выдержать десять первых лет жизни Анатоля. Михайло Степанович часто приходил ночью в детскую. Кормилице дозволял он иногда спать, Настасье никогда, она раздевалась только в бане – два раза в месяц, – и подите, исследуйте тайны сердца! Настасья любила до безумия ребенка, существованием которого отравлялась вся ее жизнь, за которого она вынесла столько физических страданий и физической боли. Марья Валерьяновна, сколько могла, вознаграждала ее и лаской и подарками, но сама чувствовала, какую бедную замену она ей дает за лишение всякого покоя, за вечный страх и, наконец, за синие пятна на лице и теле. Настасье было приказано, чтоб летом не было мух в детской, и горе ей, если Михайло Степанович находил муху; Настасья отвечала за то, если малютка, начиная ходить, падал; она отвечала за царапину на его руке, за насморк, который происходил от прорезывания зубов, за его плач и крик… Не только чувство сострадания никогда не пробуждалось в душе Михаила Степановича, но даже в нем не было терпения рассудить о том, что няня не могла ни предупредить, ни отвратить чего-нибудь, – ему казалось легче обрушивать на нее свой гнев, – это же состояло в его воле.
Пока ребенок был совершенно глуп, нечто вроде зверка, баловству со стороны Михаила Степановича не было пределов. Долго это не могло так оставаться. Михайло Степанович был человек, не способный выносить что бы то ни было одаренное волею; чем больше развивался Анатоль, тем больше он начинал «мешать ему», как отец выражался, и любовь его переходила мало-помалу в жестокое преследование, которое он называл воспитанием. Он продолжал его баловать, но вдруг за какой-нибудь вздор, за какое-нибудь невинное, детское проявление характера, силы, воли, Столыгин с жестокостью нападал на ребенка. Ребенок, с своей стороны, не приученный к послушанию, капризничал и раздражал безумное желание сломать в нем всякое свободное движение. Михайло Степанович таскал его за волосы, кричал на него диким голосом, ставил на колени, – у нервного ребенка делались судороги, обмороки. – Мать, уступавшая во всем, не могла уступить в этом; ребенок делался свидетелем страшных сцен. Иногда Михайло Степанович выгонял их обоих вон с угрозами и ругательствами; Анатоль, посинелый от страха, судорожно хватался за платье матери и прятался за нее, потом ночью вздрагивал и, проснувшись, шопотом спрашивал у няни: «Папаша ушел? Папаши нет?» – Марья Валерьяновна, при всем кротком самоотвержении своем, стала уважать в себе мать Анатоля, в ней явилась удивительная твердость, – после любви ничто так не развивает женщину, как воспитание детей. Эту оппозицию тотчас заметил Михайло Степанович – он удвоил свои преследования. Однажды после обеда сидела Марья Валерьяновна, грустная и печальная, в гостиной, возле нее играл Анатоль, у дверей стояла Настасья, Михайло Степанович ходил по комнате взбешенный и угрюмый.