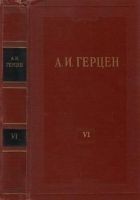Том 6. С того берега. Долг прежде всего - страница 128
Николай – это Павел, вылеченный от безумия, но не поумневший, Павел без добрых порывов и без бешеных поступков. У отца была белая горячка самовластия, delirium tyrannorum; у сына она перешла в хроническую fièvre lente. Павел душил из всех сил и в четыре года свернул шею – не России, а себе, Николай затягивает двадцать шестой год понемногу петлю России – с немецкой выдержкой и аккуратностию.
Живую связь между Павлом и Николаем составляло худое, желтое, иссохнувшее, гнусное привидение, существо с ядом и желчью в жилах, неусыпное, во все мешающееся, вечно злое, мертвящее, – существо, заставившее русский народ проклинать Александра, лучшего из ряда царей после Петра, – существо, заклейменное стихами Пушкина «Холоп венчанного солдата». Николай его терпеть не мог – он чувствовал в нем соперника. Двух Аракчеевых было много для России.
При Николае характер генералов 1812 г. изменяется, школа Аракчеева растет, школа писарей и аудиторов, дельцов ифлигельманов, школа людей бездарных, но – точных, людей бездушных – но с ненасытным честолюбием, людей посредственных – но способных доносить, пытать, засекать, людей, знающих все уловки, все законы, ворующих систематически, грабящих по правилам политической экономии. Несколько потерянных стариков являются там-сям в Государственном совете; чуждые, отсталые, они стараются догнать холодных злодеев и боятся признаться, что у них есть сердце; двум-трем удалось переродиться.
Вы уже видите теперь, какой тип я хотел представить в моем князе-кавалеристе.
Корнет Анатоль был взят князем к себе в адъютанты. Эта должность, наименее военная из всех в мирное время, оставляла Анатолю полный досуг разъедать свою жизнь теми печальными отношениями к жене, о которых мы говорили.
Но вдруг, когда всего менее кто-либо в России ждал похода, восстала Польша. Князь получил приказ выступить с своей дивизиею и присоединиться к армии Дибича. Все засуетилось, князь ожил и забыл свои лета, офицеры радовались отличиям и быстрому повышению, солдаты радовались, что во время похода не будет учений и беспрерывных смотров. Один Анатоль был печальнее прежнего. Товарищи смеялись над ним и говорили ему стихами партизана Давыдова:
Нет, братцы, нет! полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжина ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой…
Даже князь, очень любивший его и вообще ничего не замечавший, разглядел наконец, что адъютант его очень невесел, и, весьма недовольный, сказал ему раз, что «военная служба состоит не в том, чтоб носить мундир и аксельбанты в Москве, и что надобно было прежде думать о невыгодах военного звания, а что теперь, во-первых, нельзя идти в отставку, а во-вторых, это значило бы навсегда покрыть позором свое имя» – и, смягчая свой тон, старик прибавил, трепля его по плечу:
– Tout cela, mon cher, c'est très bien – d'aimer sa femme, mais, enfin, sacré nom de Dieu! Des femmes, on en trouve partout – Un jeune homme – bah! – Enfin, je ne doute pas de votre courage.
– Vous le verrez, mon prince, – отвечал ему Анатоль, вспыхнув в лице и голосом более одушевленным, нежели дисциплина дозволяет.
– A la bonne heure, – отвечал старик. – Ну же, любезнейший, за дело, а бабиться потом.
Анатоль принялся с отчаянным усердием за службу; в груди у него была смертельная тоска; он старался заглушить ее беспрерывной деятельностию, но успевал плохо.
С детских лет Анатоль развил в себе непреодолимое отвращение ко всякому насилию. На него сильно подействовало страшное обращение с дворовыми отца и с крестьянами – моряка. С биением сердца и со слезами на глазах смотрел он на состарившихся в отчаянной безнадежности, обтерханных, едва сытых слуг, когда отец его с своей необузданной раздражительностию осыпал их бранью, а иногда и ударами трости; с глубокой горестью смотрел он на печальных мужиков, приходивших жаловаться и просить милости, когда Столыгин свирепо и грубо принимал тех, которым удавалось добраться до барских очей, и отсылал и просьбу и мужика к моряку, на которого была жалоба.
Поставленный вне общества, отрезанный от всего мира оградою столыгинского дома, Анатоль только и мог почерпать живые мысли из книг небольшой библиотеки, составленной еще по советам Дрейяка. По счастию, нашел он Руссо и Волнея. Они воспитали еще более и уяснили ему его ненависть к притеснению. Недоставало только вести о 14-м декабре, чтоб окончательно раскрыть глаза юноше.
Анатоль был тогда студентом Московского университета. В те счастливые времена профессора не носили форменных фраков, студенты не носили мундиров, не были обязаны стричь волосы, попечителем был добрейший старик, плохо знавший грамоте, а университета не знавший вовсе, – старик, писавший до конца жизни: вторник с «ф», и «княсь» вместо «князь». Профессора тогда были или дикие семинаристы, произносившие французское «I» как греческую «λ» и пившие в семь часов утра водку, или смиренные духом немцы, которые вводили униженный клиентизм и понятие о науке как о куске насущного хлеба. Никто не заботился о том, что преподавали эти немцы и не-немцы; никто не учился тогда, не следил серьезно за лекциями, кроме медиков, – но почти все становились людьми и выходили из университета в жизнь с горячими сердцами. Смелый Полежаев читал тогда в аудитории свои стихи, которыми бичевал царскую власть; «Думы» Рылеева, «Полярная звезда» и тетрадка пушкинских запрещенных стихов не выходили из рук. И кто же в те времена не шептал на ухо своим друзьям сжимая крепко руку, известные стихи Пушкина из послания к Чаадаеву:
Товарищ, верь, она взойдет,