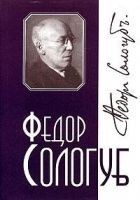Том 6. Заклинательница змей - страница 177
И не случайно, не случайно в глубокой древности в египетских мистериях, не случайно посвященного погружали в гипнотический таинственный сон и внушали, что он умер телесно, и только восстав из этого сна, он делался посвященным. Только тогда мы будем мудры, если все будем поэтами, а поэтами все мы имеем право быть, потому что всем нам этот опыт может быть доступен, только надо быть смелыми! Ведь символизм – это пафос, это дерзание. Жизнь должна быть дерзанием, должна быть мятежом. А для того чтобы она была мятежной, надо ее растревожить, и только пафос смерти вносит должную тревогу. А мы шутим над смертью, шутим, как пошутил Рабле: «Веап qui moriunt in Domino». Вот этот ужасный предсмертный каламбур теперь как будто на устах у многих. Morituri in Dcimino – так не должно быть. Вот почему я защищаю символизм, который полагает, что искусство – огонь, с которым шутить нельзя.
(Аплодисменты.)
Вячеслав Иванов. Искусство как символизм
Милостивые государыни и милостивые государи! Недолго я буду утруждать ваше внимание. Говорено было о новой школе символизма уже достаточно. Я вынес то впечатление, что большей частью нас, символистов, хвалили, провозглашали наше направление победоносным. Я не знаю ничего по этому поводу. Что касается символизма не нашего направления, – господа, я один из символистов, – то он победил. Объяснюсь.
Совершенно не важно для общего учета жизни, каким образом будут оценены деятели, скажем, последних двух десятилетий, будет ли оценка высока или сравнительно низка. Скорее всего, будет переменчива: в одну эпоху более высокая, в другую более низкая. Такому опыту учит нас история литературы вообще. Вовсе не это важно, а важно то, что утверждено известное общее основоположение.
В самом деле, господа, если вы послушаете наши рассуждения или почитаете наши теоретические писания, то зачастую вы встретитесь с такими утверждениями: Данте и Эсхил – символисты. Что это значит? Это значит, что мы упраздняем самих себя. Да, мы упраздняем самих себя как школу; не то что мы от чего-нибудь отступаем и хотим сделаться другими людьми, другими писателями, – нет, наоборот, мы остаемся вполне верными себе и раз начатой нами деятельности. Дело заключается в том, что истинный символист заботится, конечно, не о судьбе того, что принято признавать школой, направлением, определенно очерчивая это понятие хронологически и именами деятелей, – он заботится о том, чтобы установить яркий общий принцип, принцип, который стремился бы утвердить символизм. Это символизм всякого истинного искусства. Мы убеждены, что этой цели достигли, что символизм отныне навсегда утвержден как принцип всякого истинного искусства, из чего вовсе не следует, что мы хорошо применяли этот принцип. Быть может, окажется, что мы, именно мы, утвердившие этот принцип, мы были вместе с тем самыми недостойными применителями его. Так, на практике символисты не всегда оправдывали свое название и по существу дела вовсе не были ими.
Я позволю себе для большей ясности своего изложения еще одно сравнение, которое почерпнуто из истории церкви, из истории церковного догмата, потому что в истории церковного догмата это яснее вследствие определенности этого догмата, нежели в истории каких-либо иных идей. Тут всякий принцип окончательно ясно формулируется. Когда отцы первых вселенских соборов провозгласили «единосущие», то вера именно именно в этот догмат, приятие этого догмата и абсолютное неприятие обратного спорящего догмата о «подобосущий» – все это было истинным признаком всякого «православного» христианина и отличием от еретика. Но как же люди, провозгласившие это, должны были смотреть на своих предшественников, за первые века христианства? Ясно, что они еретиками провозглашены не были, а, напротив, было признано, что они и учили, и признавали догмат о единосущии. Но с тех пор как этот догмат был осознан и формулирован, он сделался формальным требованием принадлежности к церкви. Подобное происходит и с символизмом.
Начиная с Гете идет в истории новой литературы движение, которое стремится к тому, чтобы утвердить символический характер всякого истинного искусства. С особенной интенсивностью и с особенной четкостью это было достигнуто как раз в новейшей русской литературе. Родоначальником символизма является в этом смысле Тютчев. Если я говорю, что символизм восторжествовал, то не хочу сказать, что восторжествовал Сологуб, Брюсов, а что, несомненно, восторжествовал Тютчев, который сделался народной русской славой. Между тем не так давно его оценивали как мелкого поэта прошлого. Точно так же восторжествовал Достоевский как символист. Правда, Достоевский всегда оценивался высоко, но потом стали оценивать все выше и выше, и характерно, что последняя оценка Достоевского базировалась, зиждилась на его истолковании как символиста. Таким образом, словам «символист» и «символизм» я придаю более широкое значение и не склонен защищать нашу школу, наши навыки, наши каноны, а думаю провозгласить догмат православия искусства в его церковном сознании. Я делаю это с полным уважением к тому источнику, откуда я почерпаю свою метафору, ибо искусство есть поистине святыня.
Но после того как утверждено искусство как символизм, после этого, казалось, должны были прекратиться все толки о том, кончилась школа или не кончилась, каков специальный канон символистов и т. п., ибо если всякое искусство символично, то может быть символизм классический, романтический, может быть символизм футуристический, если футуризм окажется чем-нибудь достойным внимания. Символизм есть общий признак искусства и сознан был как нечто важное. Почему важное, конечно, здесь я не могу разъяснить за неимением времени. Настоящие возражения против новейшего искусства должны быть сообразованы с этим. Надо различать возражения, направленные на школу или на ее представителей, и возражения, направленные на самый догмат, на самый принцип, иначе мы будем путаться.