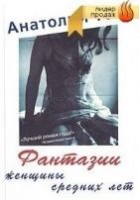Фантазии женщины средних лет - страница 48
Единственно, чем они могли себя побаловать – это всего-навсего четыре забавы, две из которых, воевать и интриговать, в большей степени развивали, так сказать, политическую часть истории. Другие две – чревоугодие и секс разного вида развили культурную и эмоциональную составляющую. Не случайно же наиболее шокирующие извращения совершались в самые древние времена и значительно притупились в накале со временем. Вспомним хотя бы Содом и Гоморру или, например, более поздних римских цезарей.
Действительно, что было делать какому-нибудь саксонскому герцогу? Пьянствовать, предаваться обжорству и свальному греху, ну и повоевать еще, конечно! Ведь что может быть упоительнее, чем рисковать своей и многими чужими жизнями? Отсюда все эти плюмажи, накидки, плащи и прочие петушиные принадлежности, ведь если забава, так забава во всем. Поэтому именно война является основным и наиболее действенным историческим лекарством от скуки. Мысль, что нашему саксонскому герцогу нужно было другое саксонское герцогство, чтобы, расширив свои владения, улучшить экономику, увеличить богатства и пр., по-видимому, полная дребедень. Он экономикой своего-то царства не умел и не хотел управлять, зачем ему хлопоты о другом?
Ну а в передышке между войнами, когда скука проедала дырки во времени дня и ночи, единственное, что оставалось, это поинтриговать, отравить ближнего или отрубить ему голову либо совершить еще какое-нибудь подобное чудачество. Так и продолжалось годами и столетиями, скука задав-ливала и требовала выхода, и единственные остававшиеся в запасе действия были войны, интриги, любовные приключения и связанные с ними смерти. Откройте первую попавшуюся книгу по истории и вы увидите, что кроме войн и интриг в ней больше ничего нет. Все остальное для истории не существенно, от остального ей тоже скучно.
Скука самый мощный мотиватор и движитель, и нет ничего сильнее ее. Именно она сформировала человека и ответственна за все лучшее, что произошло с ним, но и за все худшее тоже.
Я встаю и разминаю затекшие спину и ноги, сидение на стволе, конечно, романтично, но жестковато. Мне хочется движения, и я иду, не разбирая тропинки, запуская ноги в толстый шуршащий нарост жухлой травы, мне нравится этот шорох, к тому же ботам моим тропинка ни к чему, им все равно по чему шагать.
Я иду и думаю, что вот опять книга права, для меня никогда не существовало ничего более депрессивного, чем безделье и скука. Я просто заболевала, когда мне нечем было себя занять. Как ужасно мне было поначалу во Флоренции, одной, без друзей, даже без знакомых. Все, что я делала, это занималась в университете и писала письма Стиву. Я писала почти каждый день, делясь с ним каждой мелочью: когда проснулась, что ела за завтраком, с кем говорила по телефону. Я жаловалась на то, как мне сложно здесь, на новом месте, без знания здешней культуры, но главное, без знания языка.
«И в то же время, – пыталась я объяснить Стиву, – все неоднозначно. Я впервые поселилась в большом европейском городе, я и не знала прежде, какие они, настоящие города. К тому же Флоренция – необычный город. Если смотреть сверху из решетчатого закругленного окна Уффицы, то Флоренция представляется извилистым сплетением желтовато-коричневых кубических форм, притягивающим своей терракотовой путаницей и сам музей, и меня, завороженно стоящую у амбразурного окна. А потом хорошо выйти на площадь и пойти вдоль сладострастно-лениво растянувшейся реки и утонуть в запутанных улочках, неловко огибающих игрушечные лепные церквушки со спрятанными под ними карликовыми площадями. И снова углубиться в неразбериху домов, в стук булыжных мостовых, в сдавливающие с обеих сторон фасады, играющие хлопками распахнутых деревянных ставней. И вдруг почувствовать себя отстраненной от мира, от проходящего времени, от забот, одновременно одинокой, и свободной, и раскованной, и предоставленной только самой себе, и зависящей только от самой себя».
«На это требуется время, – написала я в другом письме, уже значительно позже, – сначала понять и оценить город, а потом привыкнуть и полюбить его энергию. Ты ведь знаешь, я скучаю по нашей тихой, неспешной, удобной Америке, ее чистым, заснувшим, почти безлюдным улочкам с аккуратными домиками, с очень зелеными, а порой разноцветными деревьями. А здесь город. Конечно, он стрессовый и забирает у тебя энергию, но вместе с тем он и заряжает. Помнишь, я писала, что познакомилась с Джонатаном, это он объяснил мне город и вовлек в него».
«Я помню, но ты писала коротко, лишь упомянула, – ответил мне Стив в следующем письме. – Расскажи мне о нем, опиши, а если будет время, сделай набросок, чтобы я представлял его».
«Джонатан родился в Америке, – писала я Стиву, – но, попав еще ребенком в Европу, жил с родителями в разных странах. Он свободно говорит на пяти языках и любит рассказывать о себе невероятные истории, и я бы не верила, если периодически не убеждалась бы в их правдивости. У него смешное добродушное лицо, высокий лысеющей лоб, знаешь, такой очень кожаный, легко складывающийся морщинами. Я вложила в письмо карандашный рисунок, так что ты увидишь. Он всюду меня с собой таскает, знакомит с новыми людьми, кажется, он знает абсолютно всех. Я даже не знаю, почему он проявляет ко мне столько заботы, у нас ничего не было, не волнуйся, он совсем не в моем вкусе. Возможно, ему льстит, что симпатичная девушка боится отойти от него даже на шаг и слушается каждого слова».
«Наверное, так и есть. Каждому бы льстило».
Стив теперь часто соглашался со мной. Он вообще сильно изменился за время нашей переписки, его письма приобрели глубину, наполнились сопереживанием, мне казалось, что я ощущаю его присутствие.