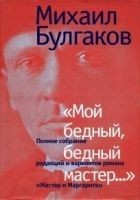«Мой бедный, бедный мастер…» - страница 429
38
…наступите ногой на этот портрет,— он указал острым пальцем на изображение Христа на песке.— Эпизод этот был одним из главных в романе. Но по цензурным соображениям писателю пришлось его изъять. Булгаков не сомневался, конечно, в способностях «цензоров» и «критиков» быстренько отыскать истинный смысл, заключенный в предложении консультанта (с копытом!) разметать рисунок на песке. Для этого им достаточно было вспомнить содержание рассказа довольно популярного писателя-мистика Н. П. Вагнера («Кот-Мурлыка») — «Мирра». И тогда поединок «иностранца» с Иванушкой предстал бы перед ними в более ясных очертаниях. Мы указываем на это сочинение Н. П. Вагнера не только потому, что оно является ключом к разгадыванию важнейшего эпизода в романе, но и потому, что многие произведения этого писателя занимали видное место в творческой лаборатории Булгакова. И вновь подчеркнем: исследователи-булгаковеды практически не касались этой важнейшей темы.
39
…и дочь ночи Мойра допряла свою нить.— В древнегреческой мифологии мойры — три богини судьбы, дочери Зевса и Фемиды (в мифах архаической эпохи считались дочерьми богини Ночи). Клото пряла нить жизни, Лахесис проводила ее через все превратности судьбы, Атропос в назначенный час обрезала жизненную нить.
40
«Симпатяга этот Пилат,— подумал Иванушка,— псевдоним Варлаам Собакин»…— В послании Ивана Грозного игумену Кирилло-Белозерского монастыря Козме с братией, написанном по поводу грубого нарушения устава сосланными в монастырь боярами, есть слова: «Есть у вас Анна и Каиафа — Шереметев и Хабаров, и есть Пилат — Варлаам Собакин, и есть Христос распинаемый — чудотворцево предание презираемое». Шереметев и Хабаров — опальные бояре, Варлаам — в миру окольничий (2-й чин Боярской думы) Собакин Василий Меньшой Степанович.
41
…а из храма выходил страшный грешный человек: исполу — царь, исполу — монах.— Иван Васильевич Грозный (1530—1584), с 1533 г.— великий князь, с 1547 г.— первый русский царь.
42
Над Храмом в это время зажглась звезда…— Первоначально было: «Над Храмом в это время зажглась рогатая луна, и в лунном свете побрел Иванушка…» Страшные и пророческие слова писателя, предвидевшего судьбу храма Христа Спасителя.
43
В вечер той страшной субботы, 14 июня 1943 года…— В рабочей тетради Булгакова есть интересная запись: «Нострадамус Михаил, род. 1503 г. Конец света 1943 г.».
44
…гипсовый поэт Александр Иванович Житомирский…— В одном из черновиков читаем: «Сад молчал, и молчал гипсовый поэт Александр Иванович Житомирский — в позапрошлом году полетевший в Кисловодск на аэроплане и разбившийся под Ростовом».
Исследователи справедливо указали на поэта Александра Ильича Безыменского (1898—1973) как на прототипа Александра Ивановича Житомирского (Безыменский родился в Житомире). Напомним, что Безыменский был одним из злейших травителей Булгакова.
45
И родилось видение… прошел человек во фраке…— Одним из прототипов Арчибальда Арчибальдовича, по справедливому мнению Б. С. Мягкова, разделяемому другими исследователями, послужил директор писательского ресторана в «Доме Герцена» Яков Данилович Розенталь — фигура колоритная, привлекавшая внимание посетителей этого заведения.
46
Поэт же Рюхин…— Персонаж, вобравший в себя черты многих писателей и поэтов того времени.
47
…впал в правый уклон.— В конце 20-х гг. Булгаков оказался одной из жертв кампании против правого уклона в искусстве и литературе. «В области театра у нас налицо правая опасность,— отмечалось в редакционной статье журнала «Новый зритель» 25 ноября 1928 г.— Под этим знаком мы боролись… против чеховского большинства в МХТ-И (так в оригинале.— L.), против „Дней Турбиных“… Ближайшие месяцы, несомненно, пройдут под знаком контрнаступления левого сектора в театре». В феврале 1929 г. один из руководителей Главреперткома В. И. Блюм выступил со статьей «Правая опасность и театр», которая почти полностью была посвящена разбору пьесы «Дни Турбиных» как наиболее яркого и «опасного» произведения, проповедующего идеи побежденного класса, то есть буржуазии (Экран. 1929. 17 февраля). В первом номере журнала «Советский театр» за 1930 г. вновь склоняется имя Булгакова в связи с борьбой против правого уклона. «Именно театр,— подчеркивалось в передовой статье,— оказался наиболее удобной позицией для обстрела политических и культурных завоеваний рабочего класса. Злобные политические памфлеты и пародии на пролетарскую революцию прежде всего нашли свое место на театральных подмостках („Зойкина квартира“, „Багровый остров“). Именно на театр направлено главное внимание врагов». А в статье «Начало итогов» (автор — Р. Пикель) прямо отмечалось, что важнейшим фактором, «подтверждающим укрепление классовых позиций на театре, является очищение репертуара от булгаковских пьес».
48
…не в правый уклон, а, скорее, в левый загиб.— Писатель в данном случае обыгрывает текст статьи «Искусство и правый уклон», помещенной в газете «Вечерняя Москва» от 2 марта 1929 г. В ней говорилось: «Никто [из комсомольцев] не спорил по существу — о правом уклоне в художественной литературе… Следовало бы, пожалуй, говорить не только о правом, но и о левом уклоне в области художественной политики… О „левом“ вывихе докладчик почему-то умолчал».
49
— Нет, не помилую…— В первой редакции: