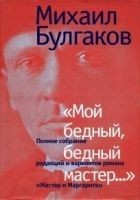«Мой бедный, бедный мастер…» - страница 447
«Статья в „Правде“ и последовавшее за ней снятие с репертуара пьесы М. А. Булгакова „Мольер“ особенно усилили как разговоры на эту тему, так и растерянность. Сам Булгаков сейчас находится в очень подавленном состоянии (у него вновь усилилась его боязнь ходить по улице одному), хотя внешне он старается ее скрыть. Кроме огорчения от того, что его пьеса, которая репетировалась четыре с половиной года, снята после семи представлений, его пугает его дальнейшая судьба как писателя… В разговорах о причинах снятия пьесы он все время спрашивает: „Неужели это действительно плохая пьеса?“ — и обсуждает отзывы о ней в газетах, совершенно не касаясь той идеи, какая в этой пьесе заключена (подавление поэта властью). Когда моя жена сказала ему, что на его счастье рецензенты обходят молчанием политический смысл его пьесы, он с притворной наивностью (намеренно) спросил: „А разве в "Мольере" есть политический смысл?“ — и дальше этой темы не развивал… В театре ему предлагали написать декларативное письмо, но это он сделать боится, видимо, считая, что это „уронит“ его как независимого писателя и поставит на одну плоскость с „кающимися“ и подхалимствующими. Возможно, что тактичный разговор в ЦК партии мог бы пробудить его сейчас отказаться от его постоянной темы — противопоставления свободного творчества писателя и насилия со стороны власти, темы, которой он в большой мере обязан своему провинциализму и оторванности от большого русла текущей жизни» («Я не шепотом в углу выражал эти мысли». С. 37—39).
«Записанное» — собиралось и систематизировалось в ОГПУ в «деле Булгакова». Туда же иногда попадали и «записи», которые имели совершенно другое предназначение. Например, там могли оказаться заметки П. С. Попова о Булгакове, поскольку Попов также находился «под колпаком». В архиве писателя сохранилась тетрадочка, в которой есть такая любопытная запись Н. Н. Лямина: «У меня есть чудный друг — Патя Попов, он мой старый знакомый и приятель… пишет разную галиматью (Макину биографию, например). Уже дошел до „самых корней“ его происхождения…» (ОР РГБ. Ф. 562. К. 17. Ед. хр. 19). Именно «корни» более всего и интересовали «специалистов» на Лубянке.
Пятнадцать лет (!) ходили за Булгаковым «добрые люди» и «записывали» каждое его слово, создавая своеобразное «евангелие от Булгакова», отрывки из которого появились в печати совсем недавно. Писатель прекрасно знал, что многие из окружения принимают участие (вольно или невольно) в создании его «евангелия», и боялся «искажений», «вранья» и «путаницы». Кстати, в последней редакции романа речь уже идет не о многих «тысячелетиях», в течение которых будет продолжаться «путаница», а лишь о «долгом времени». Эта поправка весьма симптоматична.
Добавим к сказанному, что многие факты свидетельствуют о том, что примерно в 1928 — начале 1929 гг. на Булгакова был написан донос, произведший на писателя сильнейшее впечатление (пока он не опубликован, но о его содержании можно судить по другим доносам этого страшного для писателя времени, в которых, например, были такие сведения: «О „Никитинских субботниках“ Булгаков высказал уверенность, что они — агентура ГПУ. Об Агранове Булгаков говорил, что он друг Пильняка, что он держит в руках „судьбы русских литераторов“, что писатели, близкие к Пильняку и верхушкам Федерации, всецело в поле зрения Агранова, причем ему даже не надо видеть писателя, чтобы знать его мысли»). С этого времени тема предательства и доносительства стала одной из главных в творчестве Булгакова.
Так что фразу Иешуа о «путанице» в записях «добрых людей» следует отнести не к древнейшим легендарным временам, а к временам сравнительно недавним, происходившим в «красном Ершалаиме».
193
…перерезать, уж наверно, может лишь тот, кто подвесил.— Это один из ключевых эпизодов не только данной главы, но и всего романа. Он, конечно, многозначен. Но нельзя не обратить внимания еще на один фрагмент из «евангелия от Пилата», который непосредственно связан с мыслью о волоске, на котором подвешена жизнь героя:
«Юноша,— сказал я,— доселе просил я тебя, теперь слушай моих приказаний. Спокойствие вверенной мне провинции требует этого; умеряй свои слова. Берегись преступить мое приказание, понимаешь меня, иди и будь счастлив!»
«Наместник Римский! — сказал он.— Что приношу я народам, не есть война, но любовь и милосердие. Я родился в тот день, когда кесарь Август даровал покой римскому миру, из-за меня война не произойдет, напротив, ее произведут другие, а когда приблизится страдание, удаляться от него не буду, покорюсь ему из послушания воли Отца моего, Который указал мне путь. Твой практический совет не осмыслен! Не в твоей силе удержать жертву, которая идет на алтарь» (Последние дни жизни Пилата… С. 20). Пилат в данном случае рассказывает о своей беседе с Иисусом Христом, состоявшейся до трагических событий.
А вот свидетельство из Евангелия от Иоанна уже о времени событий: «[не знаешь ли, что] я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя? И Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было тебе дано свыше…» (19:10—11).
194
— Ты думаешь, несчастный, что римский прокуратор может отпустить человека, говорившего то, что говорил ты? Безумец! — Это вопрос, который был одним из определяющих для писателя и с точки зрения правды «исторической», и с точки зрения современной действительности. По общему свидетельству евангелистов (в том числе и апокрифического евангелия Никодима), Пилат не сомневался в невинности Подсудимого и утверждал, что «предали его из зависти». Он же неоднократно обращался к иудеям с предложением отпустить Узника. И лишь после того, как он услышал угрозы послать жалобу кесарю на его действия, Пилат резко изменился и фактически немотивированно предал на смерть невинного.