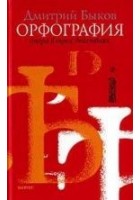Орфография - страница 215
— Я тоже не знаю, — серьезно кивнула Зайка.
— Ну, и хорошо — меньше будет соблазнов собой гордиться. Вот говорят: как Бог терпит всякое зло? Так ведь он не терпит, зло истребляется… и не в последнюю очередь вашими руками.
— Да что же я могу? — окончательно смутилась Зайка. — Вы из меня Жанну д'Арк сделали, а я ужасная трусиха…
— Все великие подвиги совершаются трусами, от страха перед собственной совестью. Но вы продолжайте себя терзать, это очень полезно. — Он размахивал руками в темной прихожей; юный Маркс положил палец в рот и затих, глядя на него. — Живите как Бог на душу положит, слушайтесь только себя, любите кого хотите, страдайте из-за кого хотите (страдать вы будете, без этого какое же счастье), — но только не сомневайтесь в себе. Я считал долгом вам это сказать, потому что вы сомневаетесь. Знаете сказку про яблоню? Кажется, кто-то из немцев. Я в детстве все плакал над ней, — Ять почувствовал, что близок к этому и сейчас, впервые за долгое время: удивительно действовала на него эта квартира, все еще уютная, пахнущая домом, несмотря на вселение ответственных товарищей с Гороховой. — Там мальчик любил яблоню, и яблоня была счастлива. Он играл в ее ветвях и ел ее яблоки, и она была счастлива. Потом он вырос здоровым таким балдой и ушел из дома, а когда вернулся, то яблоню эту при каких-то там обстоятельствах срубил, она окно ему, что ли, застила, — и она опять-таки была счастлива, хотя не совсем. Мне очень понравилась там эта трогательная сноска насчет того, что не совсем. Ну вот, а потом он состарился, так? — и присел отдохнуть на пень, и сказал: «Боже, какой прекрасный, удобный пень, а я и не замечал его!»
— И яблоня была счастлива, — закончила Зайка.
Он сбежал вниз по лестнице, все еще несомый волной; то, что он чувствовал при виде этой девочки, для которой Абсолютное Благо было еще естественней, чем для него — изгойство, было несравненно больше любви и куда ближе к религиозному поклонению. Это добро, без каратаевской инертности и мученической жертвенности, простое, домашнее, жалкое, еще ясней доказывало Бога, чем лишняя буква ять. Пока все искали Россию, Россия переселилась сюда, в эту квартиру на Васильевском острове, в близорукую девочку с неловкими руками.
И Зайка поверила странному предсказанию Ятя, как верила всему непонятному, — и всегда была уверена, что ей везло.
Похоронив обоих родителей в середине двадцатых и оставшись одна, она вырастила Маркса, чей отец спился и попал под трамвай вскоре после гибели жены от тифа; и вырастила его человеком. Сама она замуж не вышла, да и любви большой не знала, если не считать увлечения полярным летчиком, в тридцатых годах часто бывавшим у ее соседей по квартире. Она с Марксом жила теперь в своей детской, а прочие комнаты их большой квартиры отдали другим жильцам. Летчик пару раз сводил ее в ресторан, пытался приставать и сам недоумевал, почему с ней не получается, как с другими. Он обещал забрать ее в Мурманск, где теперь такие дела, ууу! — но никуда не забрал, конечно. Она учительствовала в тридцать пятой ленинградской школе, той самой, с физическим уклоном, которую разгромили в тридцать седьмом, когда врагом оказался директор; она преподавала там литературу и к физическому антинаучному кружку не имела отношения, но уволили всех, и она пошла корректором в детское издательство. Разогнали и издательство, но Маркс — инженер — уже работал, на жизнь хватало. У его отца оставались могущественные друзья, так что их не трогали и даже приносили кой-какие продукты; эти же друзья предупредили ее в июле сорок первого года, чтоб не слушала никого и уезжала при первой возможности. Ее всегда предупреждали, чтоб она никого не слушала, потому что она всему верила.
Маркс пошел на войну и погиб, она узнала об этом в Ташкенте и полгода пролежала больная; но выходили, вернулась, снова устроилась в школу и преподавала до шестидесятых годов; мальчик, сын новых соседей, был ей за внука, и она многое успела ему рассказать, многому выучить, — но, когда ему исполнилось пятнадцать, соседи переехали то ли в тайгу, то ли на целину. Тогда все время переезжали, страна находилась в беспрерывном движении, превратившись в одну громадную секту ходунов: когда человек боится двигаться вглубь, опасаясь увидеть там, чем он стал, — он начинает безудержную экспансию вширь. Она доживала на пенсию, ходила иногда в Малый драматический, смотрела телевизор, а в семьдесят втором слегла в больницу и оттуда уже не вышла; к ней некому было приходить, коллеги давно про нее забыли, и она не претендовала на их память, — а вот к соседке иногда приходила неприятная, злая невестка, а с ней сын, мальчик лет восьми, страшно боявшийся больницы, тихий и зажатый; и чтобы он не так боялся, Зайка рассказывала ему что попало. Она отлично импровизировала сказки. Мальчик однажды дал ей яблоко. Мальчик этот впоследствии вырос, и из него тоже получился человек; это и было, вероятно, самым ценным результатом всего, о чем здесь рассказано.
33
В день отъезда Ятя пошел трамвай.
Это был намек столь явный, что уже почти неприличный: убирайся, мол, со всеми удобствами! гладкий тебе путь! Ять проснулся от характерного дребезжания: когда трамвай шел — весь дом вздрагивал. Ощущение было и привычное, и незнакомое — из позапрошлой жизни. Раньше, однако, эти дребезжания повторялись с интервалом в полчаса, но теперь прошло часа два, прежде чем прополз второй.
Внизу двое худосочных мужиков со звоном долбили ломами мостовую — без всякой видимой цели, однако имели такой вид, какой, помнится, однажды напустили на себя родители: Ятю было лет пять, он капризничал, и его не взяли гулять на острова. Отец и мать преувеличенно радовались, подчеркнуто не обращали на него внимания, громко и с удовольствием обсуждали предстоящую поездку — миленькая, возьмем лимонаду? — да, и непременно груш… Мать ненавидела груши, а он обожал, разговор велся специально для него — чтобы он раскаялся по-настоящему, увидев краешек прекрасной жизни, в которую его не пустили. Так и тут — все с преувеличенной сосредоточенностью занимались строительством, восстановлением, перераспределением, хотя результата, по чести сказать, пока не было; город продолжал разрушаться, трескаться, сыпаться, и не в силах новой власти было ему помочь, — однако она бешено суетилась на руинах, словно процесс распада никак не должен без нее обойтись. И он послушно ускорялся. Ять с тихой радостью ждал последнего своего петербургского дня, боясь его торопить (прежний Ять все опасался бы, что не выпустят, — новый, однако, ни в чем не сомневался, знал, что уедет). Поезд отправлялся в час дня. Ять встал, оделся, неспешно собрал немногочисленные, как всегда, пожитки, взял денег, тщательно упрятал записную книжку с гельсингфорсскими адресами (у всех там, оказывается, было множество знакомых — рекомендовали ему даже русскую газету, выходившую уже полгода), прошел на кухню, где доедали картошку дворничихины дети… Дворник теперь по утрам был дома — чай, не царское время, когда полагалось мести с рассвета. Ять налил себе кипятку из общего большого медного чайника, заварил брусничного листа, которым в девятнадцатом году заменяли чай, и сел к столу.