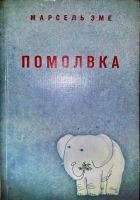Помолвка: Рассказы - страница 82
Я вышел из дому, спустился в метро, доехал до площади Мадлен и походил по городу, но вид улиц не поразил меня. Ведь между позавчерашним и сегодняшним днем лежат целых семнадцать лет. На площади Согласия перед зданием Морского министерства вновь стояли на часах немецкие моряки, и я не пожалел о том, что со мной нет моей маленькой Жюльетты.
В этот день у меня было несколько поразительных встреч. Самое большое впечатление оставила у меня встреча в большим моим другом, художником Д. Мы столкнулись с ним нос к носу на углу улицы Аркады и улицы Матюрен. Я радостно ему улыбнулся и уже готов был протянуть руку, но он скользнул по мне невидящим взглядом и прошел мимо, не замечая моей дружеской улыбки. И я вовремя вспомнил, что мы только через десять лет с ним познакомимся. Конечно, я мог его догнать и под каким-нибудь предлогом представиться, но не сделал этого — то ли из ложного стыда, то ли покоряясь судьбе; и хоть я и пообещал себе, что, вопреки ее предначертаниям, непременно постараюсь ускорить час нашего знакомства, я и сам не очень в это верил. Однако и разочарование мое, и нетерпение были не менее сильны, чем печаль, в которую ввергла меня эта встреча.
А немного раньше мне встретился Жак Сарриет, жених моей дочери Мари-Терезы. За одну руку его вела мать, в другой он держал серсо. Мы с госпожой Сарриет остановились, и она стала рассказывать мне о своих детях, в том числе и о Жаке. Эта достойная женщина, не менее своего мужа пекущаяся о моральном подъеме Франции, сообщила мне, что они избрали для мальчика поприще священнослужителя. Я ответил ей, что одобряю их решение. На обратном пути, в метро, я встречаю Роже Л., малого лет тридцати, к которому никогда не испытывал особой симпатии. У него расстроенный вид, он говорит мне о своем тяжелом материальном положении. Я с любопытством смотрю на этого жалкого человека, который лет через десять станет обладателем огромного состояния, нажитого всякими темными делами. И пока он жалуется мне на свою теперешнюю нужду, я вспоминаю его таким, каким он будет впоследствии — наглым, грубым, торжествующим хамом, кичащимся своим богатством. А сейчас это жалкий бедняк со страдальческим выражением лица, с печальными глазами, с робким, подобострастным голосом. И я чувствую к нему одновременно и сострадание, и отвращение, внушаемое мне его будущей блестящей карьерой.
В тот же день после обеда я ухожу к себе и достаю из стола начатую книгу, из которой написаны уже пятьдесят страниц. Наперед зная содержание тех, которые за ними последуют, я не испытываю никакого желания писать их и с тоской думаю, что отныне мне целых семнадцать лет придется пережевывать знакомые мысли и жизнь моя будет бесконечным, нудным повторением пройденного. Одно занимает меня теперь: что это за таинственные скачки взад и вперед сквозь время? И я прихожу к совершенно удручающим выводам. Вчера я столкнулся с одновременным существованием двух миров, разделенных между собой семнадцатью годами и перемещающихся один относительно другого. Сегодня передо мной возникает кошмарное видение бесконечного множества миров, в которых время представляет собой перемещение моего сознания от одного мира к другому, потом еще к другому… Три часа: существует мир, в котором я осознаю себя держащим перо. Прошла секунда: существует другой мир, где я осознаю себя кладущим перо. И так до бесконечности.
Однажды человечество единым махом перескочило через то, что условились называть семнадцатилетним периодом. И только я после этого коллективного скачка, бог знает почему, вновь проделал его в обратном направлении.
Все эти бесчисленные миры, в каждом из которых повторялась моя особа, представали передо мной в бесконечной перспективе, от которой кружилась голова.
Совершенно измученный, я в конце концов так и заснул, сидя за столом.
Скоро уже месяц, как записал я эту случившуюся со мной историю, и сегодня, перечитывая ее. я горько сожалею, что не изложил ее с большими подробностями. Я упрекаю себя, что не сумел предвидеть всего, что произошло со мною с тех пор. За прошедшие недели я снова так крепко врос в нашу печальную эпоху, что перестал помнить будущее. Я начисто позабыл все грядущие горести и радости, все, что предстоит мне пережить в ближайшие семнадцать лет. Я забыл лица своих еще не родившихся детей. Я не помню исхода войны. Я уже не знаю, чем она кончится. Я все решительно перезабыл и, может случиться, в один прекрасный день усомнюсь даже в том, действительно ли все это со мною было. Мои воспоминания о будущей жизни, изложенные на этих листках, столь незначительны, что если мне суждено будет проверить их точность, я, пожалуй, склонен буду считать их просто предчувствиями. Раскрывая газеты, размышляя о политических событиях, я пытаюсь пробудить свою память, ища ответы на мучащие меня вопросы, но это ни к чему не приводит. Лишь временами, но это случается все реже и реже, охватывает меня ощущение, которое многим знакомо, — будто все это однажды уже было.

Равнодушный
Июльским вечером, через сутки после выхода из тюрьмы, я пришел в бар «Буссоль», убогое заведеньице на бойкой стороне бульвара Рошшуар. Мне надо было встретиться там с неким Медериком, по кличке Медэ-Прищура, и сослаться на одного из его дружков, с которым я сошелся в последние месяцы заключения. Сперва я было подумал, что, кроме меня, в «Буссоли» никого нет, но тут же заметил, что в темной глубине бара сидит компания из трех человек, выпивая и беседуя, а хозяин отвечает им из-за стойки. Один из них, высокий седой толстяк с крысиным глазком как раз и оказался Медериком. Я не зря говорю «глазок», ибо Медерик был одноглазым, откуда и кличка «Прищура». Хозяин кафе обращался, главным образом, к нему, но тот благодушно помалкивал, предоставляя двум другим поддерживать разговор. Собеседники были на вид довольно жалкими. Один, поболтливее, широкоплечий коротышка с жирной мордой недоделанного бандюги, сидел, лихо надвинув на глаза темно-зеленую шляпу. Второй, замухрышка в черном костюме, был похож на потрепанного судейского чинушу.