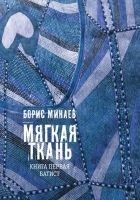Мягкая ткань. Книга 1. Батист - страница 11
– Какие?
– Вот был ему голос, и голос сказал…
– А… Ты про это. Ну слышат, да.
– Извини за такой вопрос дурацкий, но ведь это же значит, что они, вот эти древние пророки всякие, персонажи Библии…
– Торы.
– Да, Торы. Персонажи эти, они, получается, во власти галлюцинаций?
– Ну в каком-то смысле да. А почему ты спрашиваешь?
– То есть по нынешним меркам это тяжело больные люди.
Таня вела машину в черных очках. Вписывалась в повороты, рассказывала о достопримечательностях, о бедуинах, арабах. При этом параллельно объясняла Леве суть проблемы. Эту ее полную расслабленность, спокойствие и доброжелательность Лева отметил для себя как признак истины. В Таниных словах была истина, которой он раньше не понимал.
Она говорила ему, что еще даже в Средневековье, не говоря уж про более древние времена, которые Лева имеет в виду, не существовало индивидуального сознания в том виде, в каком оно существует сейчас. Индивид, личность, человек со своими границами нормы, добродетели, со своими личными эмоциями и психическими отклонениями возник, то есть стал осмысляться, фиксироваться, стал субъектом сначала личных переживаний, а потом и текстов, только в эпоху Возрождения.
До этого момента люди не отделяли себя от общего.
– От общего чего? – недоверчиво спросил Лева.
– Ну, ты хочешь, чтоб я тебе сейчас в двух словах все объяснила? – добродушно улыбнулась Таня. – От общего – значит, от целого, от целого – значит, от Бога. От общей судьбы.
– Нет, постой. Ну то есть некоторые твои пациенты – они же по-прежнему пророки, получается? Они же слышат Его?
– Не знаю, – Таня серьезно задумалась и опять вписалась в поворот. – Я знаю только то, что должна их лечить.
– Тогда давай поставим вопрос по-другому. Значит, Бог исчез, если он с нами больше не разговаривает посредством этих людей?
– Почему исчез? Он никуда не исчез. Просто мы их не слышим, эти голоса. Мы погрузились полностью, целиком в свое индивидуальное сознание. Мы им не верим просто.
– Просто не верим… А что они чаще всего говорят?
Таня засмеялась в голос:
– Да то же, что и всегда. Я слышу голос. Я слышу голос. Голос мне говорит: «Покайтесь. Будет большая беда. Война». В общем, что-то такое. Ничего, что бы мы с тобой не знали.
– Нет, – сказал Лева, – тут что-то есть. Какая-то странная штука.
В том же 2007 году Лева стал ходить в одно место в Москве – там был старый сад или маленький парк, но, чтобы попасть туда, сначала нужно было пройти через ресторан или через магазин, ничего не поймешь, даже сам вход он поначалу не нашел, тыкался во всякие двери, рассматривал витрины, пока добрая грузинская продавщица не объяснила, что нужно пройти между рестораном и магазином насквозь, и вот он заплатил сто рэ и вошел в это пространство – абсолютно парижский уголок посреди Москвы; город исчезал, закрытый кронами деревьев, хотя над садом возвышались старые брежневские жилые дома, «башни», как их тогда называли, но сам сад обволакивал, старые ветви сплетались над головой, смешные ботанические таблички перед чахлыми цветами умиляли, дорожки скрипели от шагов, мамаши с колясками умиротворенно смотрели внутрь себя, сидя по беседкам, народу было мало, и Лева сразу живо представил себе последние дни дедушки, он жил тут, на Проспекте Мира, когда переехал к Марии Мироновне, и планировал провести здесь остаток жизни, то есть лет десять, может быть, пятнадцать или все двадцать, он планировал эту скромную, полную тихой любви жизнь, а не получилось, рак сожрал его легкие и потом желудок, а это такая болезнь, о своей смерти ты узнаешь заранее, когда все еще работает, когда ничего не предвещает, только какие-то отдельные симптомы, и вот он жил здесь, на проспекте Мира, между Марьиной рощей, где выросли дети и прошли его лучшие годы, главная жизнь, где было все и где все исчезло, и Сельскохозяйственной выставкой, куда как раз в эти годы стали завозить племенных быков и коров, овец, кур, всякую колхозную живность, разводить диковинные злаки, запускать рыбу в пруды, строить павильоны, фонтан с золотыми фигурами; павильоны были совершенно сказочные, как будто здесь собирались снимать кино, просторы там были удивительные, говорили, что будут строить также и новый Ботанический сад, с пальмами, пихтами, магнолиями, а посередине был дом, где жил дедушка, посередине между Марьиной рощей и ВДНХ, но он не ходил ни туда, ни сюда, и там и там ему было грустно, нестерпимо больно, а тут он успокаивался.
Он делал свои четыре круга вдоль стен.
И успокаивался.
Глава вторая
Ла-Манш (1914)
Пловцы через пролив Ла-Манш пересекают его в тяжелых условиях: холодная вода (пятнадцать-восемнадцать градусов летом), волны и ветер (заплывы проходят при волнении до четырех баллов по шкале Бофорта включительно), а также течения, вызванные приливами и отливами. В связи с этим за всю историю пролив Ла-Манш смогли преодолеть восемьсот сорок человек (по состоянию на начало 2008 года) – это меньше числа людей, покоривших Эверест.
Первым в истории человечества пролив Ла-Манш переплыл британский пловец Мэтью Уэбб в 1875 году за двадцать один час сорок пять минут. Первая женщина переплыла пролив в 1926 году за четырнадцать часов тридцать одну минуту (Гертруда Эдерле, США).
Всего же, как говорят справочники, пловцов через Ла-Манш было за сто тридцать четыре года около семи тысяч. Из них переплыли Ла-Манш восемьсот сорок человек.
Куда же, черт возьми, делись все остальные?